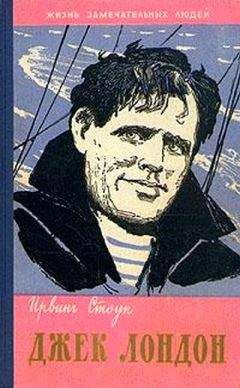Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
Пришло письмо от Еремина. Как всегда напечатанное крупным шрифтом через три интервала, оно занимает полстранички. (Лапидарный стиль Еремина не лишен чувства, даже страсти; вернувшись несколько лет тому назад из Москвы в Ленинград, он охарактеризовал родной город следующим образом: "Развалины некрополя, населенные шпаной и ворьем".) На этот раз среди пятнадцати строк письма была такая: "Сэнди Кондратова похоронили, прободение, перитонит". Я сообщил печальную новость по телефону двум-трем общим знакомым. Знакомые пожелали покойному царствия небесного, подивились, что умер не старый и такой, казалось, здоровяк, и перешли к обсуждению дел, живо пока еще трепещущих.
Лет сорок тому назад мы открыли Розанова. Розановские фразы вспыхивали то и дело в сыром хворосте нашей собственной юношеской невнятицы. Кондратов с особым удовольствием выговаривал: "Родила червяшка, червяшку, червяшка поползала и умерла". И добавляло легким вздохом изображая очаровательное розановское лицемерие: "Такова и жизнь наша. Синие чернила на белой бумаге я вспоминаю в первую очередь, вспоминая Кондратова. Вначале он исписывал кипы общих тетрадей стихами — своими и выуженными в Публичке из старых книг и журналов, прозой, математическими выкладками. Позднее, обзаведясь машинкой, Саша стал выделывать игрушечные книжечки в четвертушку листа. По складу своего характера и таланта Саша имел великого предшественника в русской литературе — Андрея Белого. Будто бы синеглазый мистик, экзальтированный структуралист, насмешник-"гоголек" вдруг возродился в нашу дурную эпоху и воплотился в рыжевато-белокурого мальчика из Белгорода, одетого в чернильно-синюю милицейскую форму. Отец погиб на фронте, Сашу опекал дядя, милицейский начальник. Он и пристроил племянника после школы в ленинградскую школу милиции. Школа помещалась в здании Главного штаба. Однажды Сашу послали красить крышу, и он говорил, что той же рыжей кровельной краской решил написать свое имя на чугунных мошонках коней, несущих колесницу русской Славы, — по букве на яйцо. Для САША КОНДРАТОВ яйца не хватало, и это будто бы дало ему идею псевдонима: СЭНДИКОНРАД! (с восклицательным знаком). Возможно, на крыше построенного зодчим Росси здания таким образом был заключен завет с богом гармонии и Саше передалась плодотворная мощь божественных коней.
Только популярных книг — про Атлантиду, внеземное происхождение земных цивилизаций, древние загадочные письмена и т. п. — он издал пятьдесят, в науке выступал с оригинальными идеями и открытиями как стиховед, лингвист, религиовед, востоковед, в литературе он автор сотен, если не тысяч экспериментальных текстов.
При этом Александр Михайлович Кондратов был человек абсолютно несерьезный. Может быть, он и умер так внезапно, потому что вместо консультаций у профессоров, раздобывания заграничных лекарств (я бы ему прислал!) он лечил язву голоданием, медитацией, тибетскими вещами, отдающими игрой и шарлатанством. Если бы по-русски это можно было сказать не пренебрежительно, а с любовью и грустью, я бы сказал "доигрался". Я не виню наших общих друзей в черствости. Это, в конце концов, удача Кондратова, что все до конца приняли правила его игры и даже к смерти его отнеслись как бы не вполне всерьез. Редко кому удавалось вот так и пройти до конца, играючи. Американский поэт только мечтал о труде, неотличимом от игры, а у Кондратова получалось.
Он действительно был широко известен как ученый. В 1976 году, провожая меня из Ленинграда навсегда в Америку, Саша сказал: "Передай привет Роману Осиповичу Якобсону". Я воспринял это как обычную несерьезную, игровую реплику: то великий филолог Якобсон, а то Сэнди Конрад! Да и вообще — как же! Будет мне, бесштанному эмигранту, на каждом шагу встречаться Роман Якобсон. Но вот не прошло и года, и я оказался на лекции Якобсона в Мичиганском университете. По окончании я пробился сквозь толпу аспирантов и добросовестно сказал: "Роман Осипович, Кондратов из Ленинграда просил передать вам привет". "Александр Михайлович? — бойко откликнулся восьмидесятилетний Якобсон, и сразу же какое-то реле сработало в гениальной голове лингвиста-семиотика, и он выпалил библиографию работ Кондратова по стиховедению. — Что он сейчас делает?" Я хотел сказать: "Исчезновение из лотоса — цирковой номер", но на секунду задумался. А знает ли Якобсон, что, оставив применение математических методов к анализу стиха, Саша защитил диссертацию по дешифровке "кохау ронго-ронго" — табличек острова Пасхи? Что в последние годы он занимается буддологией, тибетским ламаизмом? Пока я думал, аспиранты, каждому из которых одной двадцатой кондратовских трудов хватило бы на пожизненную академическую карьеру, оттеснили меня от Якобсона.
Да, как ученый Кондратов известен широко, но тоже как-то не совсем всерьез. Например, на работу в академические учреждения ему никогда не удавалось толком устроиться. Можно понять научных администраторов, посмеивавшихся над его анкетой. Ну что это такое, кандидат наук, а образование — школа милиции и институт физкультуры! Но не только администраторы, но и сами ученые, которые ценили и цитировали труды Кондратова, относились к нему с усмешкой. Их настораживал его несолидный и непрофессиональный энтузиазм, а главное то, что Кондратов, кроме статей и диссертаций, чего-то еще пописывает, то ли антисоветское, то ли похабное. А главное, они чувствовали, что эта несолидная и непрофессиональная писанина и есть для него самое важное. Так что получалось, что их важное и серьезное дело для Кондратова как бы вроде игра. И это обижало ученых, и они отвечали Кондратову тем, что не принимали его всерьез. Кроме самых лучших ученых, которые знали тайну: наука — тоже игра.
(В одной из своих машинописных книжечек Кондратов описывает новую науку — "удологию". В ней, идя дальше теории четырех элементов Марра, он сводит происхождение человеческих языков к одному элементу, и этот элемент — "уд". Там имелся и этимологический-удологический словарь: труд — от "тру уд", удача — от "дача уда", ОРУД — то есть уд, который орет, и т. п. Очень заразительное, между прочим, развлечение. Одно время мы только тем и занимались, что удологизировали. Помню, как-то по Эрмитажу проходил почтенный старец в черном мундире при орденах, Шарымов сказал ему вслед: "Удмирал удёт". В Америке ученик Якобсона профессор Матейка рассказал мне, что Якобсон считает слова "мудрость" и "муде" однокоренными и делает из этого далеко идущие семантические выводы. Это как-то даже слишком зарифмовалось с Кондратовым. С его игровой "удологией" и чугунными причиндалами коней Славы.)
И без того не слишком хорошо сложенный, Саша в институте Лесгафта был спринтером. У спринтеров мощные нижние конечности и неказистый верх. Увлекшись буддизмом, Саша занялся йогой. Еще у меня на глазах началось его преображение, а на фотографии, которую он прислал мне в Америку, у него мощнейший торс в форме идеального перевернутого треугольника. Он приписал, что, разглядывая такие фотографии, люди обычно приговаривают: ".. с достаточно тупой физиономией". Это он написал из застенчивости, и физиономия у него на снимке, при богатырской позе, застенчивая, и вообще он был застенчив. Заплетал ли он ноги за уши в невероятных упражнениях, повествовал ли о филологических открытиях, декламировал ли свои поэтические тексты — он делал это, как бы пародируя кого-то, как бы не совсем всерьез. Так ведут себя застенчивые подростки, когда хотят, преодолевая смущение, показать вам, какую увлекательную игру они придумали.