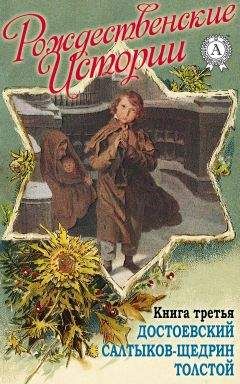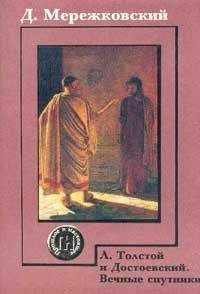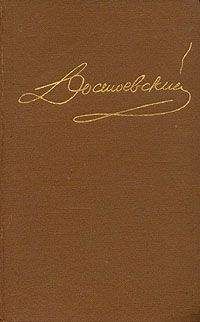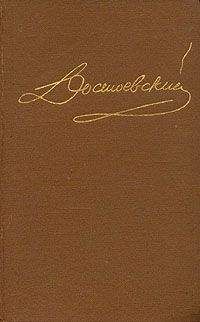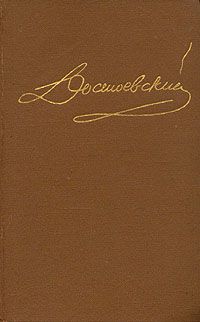Толстой и Достоевский. Братья по совести (СИ) - Ремизов Виталий Борисович
Великая литература рождается тогда, когда пробуждается высокое нравственное чувство. Взять, например, период освободительных движений, борьбу за отмену крепостного права в России й борьбу за освобождение негров в Соединенных Штатах. Посмотрите, какие писатели появились тогда в Америке: Гарриет Бичер-Стоу, Торо, Эмерсон, Лоуэлл, Уитьер, Лонгфелло, Уильям Ллойд Гаррисон, Теодор Паркер, а в России — Достоевский, Тургенев, Герцен и другие, чье влияние на образованные «круги русского общества, по мнению Толстого, было очень велико. Последующий период, когда люди были уже не способны приносить материальные жертвы ради нравственных целей, оказался бы полностью бесплодным, если бы некоторые писатели, воспитанные и сформировавшиеся в героическую эпоху, не продолжали ее великих традиций» (ТВ С. Т. I. С. 436–437).
«В начале января 1897 года Лев Николаевич как-то зашел к нам вечером (в это время семья Русановых жила в Москве. — В. Р.). […]
Бывшая у нас недавно вдова известного харьковского профессора Потебни рассказывала, что муж ее не любит Достоевского и Гоголя. Услышав об этом, Лев Николаевич заметил:
— Достоевского — это я понимаю; надо сказать, что как художник он часто невозможен. Но почему Гоголя — не понимаю. — Он помолчал и прибавил: — Люблю таких независимых людей с собственным мнением.
Когда Лев Николаевич собрался уже уходить, отец (Г. А. Русанов. — В. Р.) задал ему вопрос, действительно ли видел он сон, описанный им в конце «Исповеди».
— Да, я действительно видел его, — ответил Лев Николаевич…» (ТВ С. Т. 2. С. 78–79).
«Получил ваше хорошее письмо и порадовался тому христианскому, свободному, бодрому настроению, которым оно проникнуто, и вместе с тем испугался и продолжаю бояться за вас, — за то, чтобы вы не увлеклись борьбой, неизбежной в христианской жизни, но законной только тогда, когда человек поставлен в необходимость или отречься от того, что ему дороже жизни, или бороться (христианским орудием терпеливого перенесения гонений за неисполнение противных его сознанию требований), а не тогда, когда человек увлекается самой борьбой, борется для борьбы. Вот этого я боюсь за вас, милый Сократ, и против этого желал бы предостеречь вас. […] Я всегда вспоминаю Достоевского, который говорил о том, как смешно видеть человека, желавшего перевернуть весь мир и не могущего обойтись без папирос и готового на всё, только бы ему дали покурить. Я говорю не о курении, а о том, что самое важное не борьба, а то, чтобы орудия борьбы, т. е. люди, были сильны верою, были чисты, как голуби, и мудры, как змеи. А если люди будут таковы, то они без борьбы будут побеждать.
Так, например, я боюсь, чтобы распространение вами статьи о духоборах не вызвало бы против вас каких-либо репрессалий, которые огорчат ваших родителей и вами перенесутся, может быть, не так легко, как вы думаете.
Дело духоборов очень тревожит правительство, и на днях у моих двух ближайших друзей Черткова и Бирюкова был обыск, отобраны все бумаги, и сами они сосланы — один за границу, а другой в Курляндию.
Я не могу не бояться и не страдать за моих друзей, за те гонения, которым они подвергаются […]
Вот я и за вас боюсь и пожалуйста не распространяйте ничего, а вступайте в борьбу только тогда, когда вам нельзя будет поступить иначе. Пишу это вам, потому что полюбил вас. Пишите» (66, 25–26).
«…За чаем он, полный интересов своего эстетического сочинения, говорил о том, что подбирает примеры из всемирной литературы для того, чтобы указать образцы истинного, по его мнению, искусства: 1) проникнутого христианским чувством, 2) объединяющего людей. Нашел и может указать лишь несколько произведений В. Гюго, Диккенса, Достоевского, Шиллера. О «Натане мудром» Лессинга еще подумает, перечитает» (ТВ С. Т. 2, С. 39).

С. Т. Семенов
«Когда открылся Художественный театр и вся Москва восхищалась «Федором Иоанновичем» Алексея Толстого, Лев Николаевич оставался в стороне один и удивлялся, как это могут люди так восхищаться такой посредственной, неоригинальной, фальшивой вещью…
— Я уверен, — говорил он, — что Федор Иоаннович был не такой, и Борис Годунов тоже.
Кто-то сказал, что Федор Иоаннович имеет много общего с «идиотом» Достоевского.
— Вот неправда, ничего подобного ни в одной черте. Помилуйте, как можно сравнивать «идиота» с Федором Ивановичем, когда Мышкин — это бриллиант, а Федор Иванович — грошовое стекло — тот стоит, кто любит бриллианты, целые тысячи, а за стекло никто и двух копеек не даст. У Алексея Толстого есть ценные вещи, но не драмы. Возьмите «Сон статского советника Попова», ах, какая это милая вещь, вот настоящая сатира, и превосходная сатира» (ТВ С. Т. I. С. 418–419).

В. А. Поссе
«На другой день после первого знакомства Горького с Толстым я снова был в Хамовниках, на этот раз один.
— Я, кажется, вчера обидел вашего приятеля, — сказал мне Толстой. — Я не сказал ему главного. За ним всегда останется крупная заслуга. Он показал нам живую душу в босяке. Достоевский показал ее в преступнике, а Горький — в босяке. Жаль только, что он много выдумывает. Я говорю, разумеется, не о фабуле. Фабулу можно выдумывать. Я говорю о выдумке психологической. Допустим, вы пишете роман и рассказываете в нем, что ваш герой отправился на Северный полюс и, встретив там свою возлюбленную, обвенчался с ней. Выдумка вполне допустимая. Но если вы описываете душевное состояние приговоренного к смертной казни и заставите его думать и чувствовать так, как он при данных условиях не может, то это будет выдумка недопустимая, выдумка вредная» (ТВ С. Т. 2. С. 54–55).

П. А. Сергеенко
«Лев Николаевич все время говорит о Чехове и благословляет меня на поездку в Петербург (Сергеенко уезжал по просьбе Чехова в Петербург для переговоров с издателем «Нивы» А. Ф. Марксом об издании собрания сочинений Чехова. — В. Р.)
— Ведь Марксу теперь остается издать только меня и Чехова, который гораздо интереснее Тургенева или Гончарова. Я первый приобрел бы полное собрание его сочинений. Так и скажите Марксу, что я настаиваю…