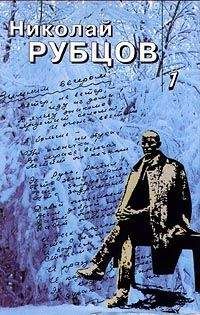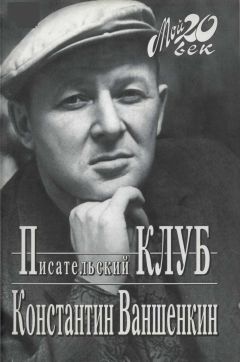Константин Ваншенкин - Писательский Клуб
Это было мне очень близко.
Еще в институте мы были явно расположены друг к другу. Но жизнь продолжала сводить и разводить, тасовать колоду. После окончания многие, даже те, у кого вышли первые книжки, оказались в растерянности. Время было неустоявшееся — не только вокруг, но и у каждого тоже. Володя поступил в аспирантуру. Правда, до диссертации дело не дошло. Дважды ездил зачем-то на Куйбышевгидрострой. Впрочем, никакие знания и впечатления не бывают лишними.
Мы долго не виделись, случайно столкнулись возле кинотеатра «Метрополь» (к слову, помните, там было два зала — «Красный» и «Синий»?). Обрадовались. Володя пригласил заходить. Началась полоса нашего нового общения.
И вот что я хочу сказать. Иные читатели воспоминаний, и не только близкие родственники любимого персонажа, предпочитают видеть его портрет отретушированным. «Ах, зачем еще и это?..» Но тогда всякие мемуары теряют смысл. Перечитайте бесстрашные воспоминания Бунина, Ходасевича. Позволю себе напомнить слова, сказанные Горьким Ходасевичу после прослушивания его воспоминаний о Брюсове: «Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне…»
Думаю, что мои скромные записи как раз не жестоки. Просто я стремлюсь передать в них то, чему был свидетелем.
Стояла осень пятьдесят третьего, почти зима. Мы с Инной снимали комнату в Хоромном тупике, у Красных ворот. Володя с матерью и сестрой Мариной жил на Никольской (тогда 25 Октября) в бывшем «Славянском базаре». Их «номер» состоял из двух смежных комнат.
Когда мы пришли туда впервые, они втроем сидели за пустым столом. У матери было безразличное, отрешенное лицо. Я вынул из пальто бутылку. Они слегка оживились. Но не оказалось никакой закуски, и мы с Володей сбегали в продмаг на углу Большого Черкасского.
В доме ощущалась крайняя бедность. Мебель оставляла впечатление самодельной: тяжелый непокрытый стол, громоздкие стулья, а может, и лавки. Потом уже мне пришло в голову, что это могло быть былой стилизацией, — базар-то как-никак славянский. Однажды очень много выпили, и я вынужден был остаться у них ночевать. Инна была за городом, в Воскресенске, где у ее родителей жила тогда наша маленькая дочка. Я лег, вернее, рухнул на железную кровать во второй комнате. Утром обнаружил, что панцирную сетку заменяют едва оструганные доски, застеленные никогда не стиранной простынкой, а на подушке отсутствует наволочка. Однако война отошла еще не слишком далеко, и меня такие мелочи не смущали.
Когда же Володе нужно было в редакцию или на выступление, он надевал аккуратную рубашечку, вполне приличный костюмчик и делался будто бы жильцом не этого ковчега, а совсем другого дома, выглядел человеком из ухоженного, благополучного, устоявшегося мира.
И почти всякий раз, как мы входили к ним, они опять сидели втроем за пустым столом. «Будто ждут конца света», — сказала как-то Инна. Но они ждали другого — перемен. Вот входили мы или Алеша Фатьянов с Серегой Никитиным, или еще кто-то, и все действительно менялось. Не менялось только выражение лица его матери. Я ничего не знал о Володином отце и легкомысленно предполагал, что он оставил их, не вынеся ее неделушества. Лишь со временем выяснилось, что он был репрессирован, и я заново увидел лицо женщины, навсегда оглушенной горем.
Фатьянова, своего земляка, привел туда однокурсник Володи, Сережа Никитин, регулярно печатавшийся в ту пору способный рассказчик. Но ведь это были люди другой закалки. Светлов сказал однажды: «Фатьянову выпить два литра водки — все равно что мне помочиться в Черное море». Проникся к Соколову и Миша Луконин. Их дозы оказались губительными для нежного Володи, не прошедшего предварительной подготовки. Но он втянулся. А потом появился еще и Смеляков — после последнего своего четырехлетнего отсутствия. Но о нем позже. Был еще Додик — друг детства Соколова, маленький, трогательный. Володя впоследствии написал о нем: «Русский более, чем русский»… Его тоже нет, как и остальных названных.
Уже в последние годы Соколов рассказал мне, как однажды увидел идущего навстречу по тротуару Додика, и тот его увидел. Между ними было метров двадцать. Додик просиял, и вдруг лицо его исказилось страхом, он замахал на Володю обеими руками, повернулся и побежал от него, продолжая отмахиваться. Наверное, объяснил Соколов с особой своей снисходительно-грустной усмешкой, Додик понял, что заговори они друг с другом, и не обойдется без выпивки, а он, скорее всего, лечился, сделал себе «вшивку». Больше он Додика не видел, а о его смерти узнал стороной.
А тогда, давно, я часто бывал в доме на Никольской, и было приятно встречаться за столом с таким доброжелательным, всегда заинтересованным взглядом Володи Соколова. Все чаще просверкивали в его стихах по-настоящему задевающие строчки. Его безусловно одобряли люди, мнением которых он дорожил. Тогда он еще не был, как заяц собаками, затравлен похвалами.
Многое вспоминается. Вот он прямо с заседания бюро секции поэтов везет меня на такси в поликлинику Литфонда по поводу неожиданно случившейся у меня почечной колики. Поликлиника еще в Лаврушинском, где он впоследствии будет жить с Марианной. Он то и дело спрашивает взволнованно: «Ну как, ничего?..» И наоборот: он жалуется в разговоре, что они с сестрой Мариной (не путать имена!) плохо себя чувствуют — слабость, вялость, — и Инна предлагает показаться ее отцу, опытному доктору, который заведует отделением в Воскресенской горбольнице, — туда более двух часов на паровике. Они приезжают, ночуют у нас. Причина недомогания обнаруживается и вскоре устраняется.
Или совсем другое. Шел я по Тверскому бульвару, нес в издательство «Советский писатель» рукопись новой книги. Издательство помещалось в Большом Гнездниковском. По дороге заглянул в редакцию недавно заново открытого журнала «Молодая гвардия», она располагалась во дворе нашего института, в административном здании. Главным редактором был тогда А. Макаров, а работали там мои приятели Е. Винокуров, Б. Бедный, А. Турков. Я зашел просто так, без всякого дела. В комнате у Винокурова сидел Соколов. Узнав, куда и с какой целью я направляюсь, Женя попросил одно из стихотворений посвятить ему. Володе эта идея тоже понравилась.
Я развязал папку:
— Выбирайте!..
Должен сказать, что Инна не одобряла, когда я посвящал стихи кому-либо. Особенно сердилась, если это были ее любимые стихи. Она считала, что я их этим порчу: необъяснимые посвящения вызывают недоумение у читателя, сбивают его с толку. Действительно, раньше ведь посвящений, не связанных с данным лицом, не было. Существовали только послания, обращения. В наши времена нет посвящений у Твардовского. Впрочем, все-таки есть два: «Сто двадцать третьей ордена Ленина дивизии посвящается» и «Танковому экипажу братьев Пухолевич». Зато у Окуджавы ими все испещрено, они пугают, как сыпь. Правда, и мне посвящено одно из лучших стихотворений, скорее крохотная поэма — «Жизнь охотника».