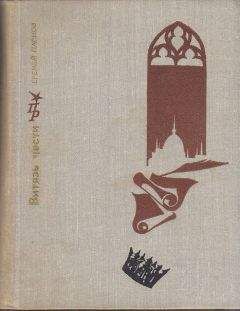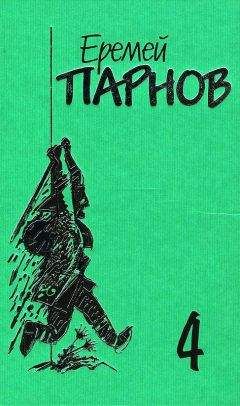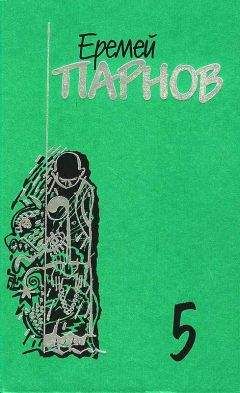Еремей Парнов - Посевы бури: Повесть о Яне Райнисе
— Весьма, — похвалил Стучка. — По-моему, тебе удалось. Но ведь и мы не лыком шиты. До Витебской губернии тоже докатываются кое-какие слухи. Кстати, Янис, как вам все-таки удалось так быстро выпустить брошюру Ленина? Мы только-только получили ее, а вы уже успели перевести.
— Наш курьер привез прямо из Женевы, еще в гранках… Знаешь, я подумал сейчас о Саше Ульянове. Целая жизнь прошла с тех пор, можно сказать, эпоха.
— Наш университет! — Стучка мечтательно запрокинул голову. — Какие титаны мысли наставляли нас на правильный путь! Бехтерев, Сеченов, Менделеев! Даже не верится. Помнишь приват-доцента Косевского? Споры в студенческой чайной?
— Я, брат, все помню. — Коляску стало трясти, и Плиекшан крепко вцепился в подлокотник. — Студента-белоруса, который дал тебе марксистскую брошюру, а также драку с городовым. Ловко ты выкрутился тогда в участке.
— Просто я все отрицал, а ты, встав в позу, говорил зажигательные речи.
Он действительно был тогда на редкость красноречивым! Не то, что теперь, когда мысль ушла, как говорят литераторы, с языка в руку. На Невском, запруженном студенческой молодежью, даже за деревянной загородкой полицейской части он пытался что-то доказывать, яростно обличал. Возмущение жгло изнутри, не давало ни минуты покоя, толкало на самый крайний протест. Казалось, он ожидает лишь повода, чтобы бурно выложить все, что накипело на сердце. Когда первый по-детски нетерпеливый порыв утих, Ян начал искать связи с группой народовольцев. Он познакомился с Александром Ульяновым, который заворожил его удивительной душевной чистотой. Еще он близко сошелся с белорусом Матусевичем, еще теснее сдружился с радикально настроенными Стучкой и Бергманом. Втроем они образовали первый латышский кружок, в котором студенты знакомили друг друга с марксистской литературой, делились политическими новостями и отчаянно спорили о путях обновления затхлой общественной жизни. Чаще всего обсуждался рабочий вопрос. Его впервые поднял Бергман. Он даже издал брошюру «Фабричный рабочий в XIX веке», в которой затрагивались разные стороны социального быта современного пролетариата. На Плиекшана она произвела большое впечатление, фактически определила его путь в революцию. Но по-прежнему хотелось чего-то неизмеримо большего, яркого, героического. Разве не это нетерпеливое упоительное чувство толкнуло его на драку с городовым, когда полиция попыталась рассеять студенческую демонстрацию, собравшуюся по случаю юбилея крестьянской реформы? «Тупой палач! — не помня себя, выскочил он вперед. — Крепостное право сам царь отменил!»
Опомнился он уже в участке.
В нем и сейчас еще живет лихорадочный хмель студенческих лет. С каким упоением постигал он азы конспирации! Сгоряча одиннадцать квартир переменил: в Академическом переулке, на Васильевском острове, Грязной улице — бог знает где…
И все же Петербург явился для него лишь начальной школой политической борьбы. Разочаровавшись в возможностях права, он продолжал уповать на просвещение, которое само по себе способно раскрыть людям глаза на окружающие их мерзости. «Манифест Коммунистической партии», отпечатанный Вольной русской типографией в Женеве, который он получил на одну ночь от Матусевича, только лишний раз убедил его в силе печатного слова.
С тем и возвратился на родину, с тем и пришел в «Диенас лапа». Годы, проведенные в газете, напомнили ему начинающийся ледоход на Даугаве. Еще нет движения, но уже слышны пушечные удары рвущихся льдин. Все полно тайными предчувствиями, освежающими веяниями, неясным шорохом неотвратимой весны. Недаром тогдашним девизом его — да и всего «Нового течения» — было гордое: «Я дерзаю!» Они действительно дерзали, пробуя и ошибаясь, отыскивали единственно правильный путь. Не прошло и года с того дня, как Плиекшан пришел в «Диенас лапа», как дух ее совершенно изменился. Из радикальной газеты с легким социалистическим оттенком она превратилась в явно выраженный рупор революционных идей. Пауль Дауге, который вслед за ним поехал в Берлин, вывез в чемодане с двойными стенками богатейшую подборку запрещенной литературы. Ею все «Новое течение» питалось вплоть до разгрома.
Именно тогда, в девяносто третьем году, и настала для него пора зрелости. Он ясно осознал, что просвещение и правосудие одинаково немощны. Не совиные очи открытые, не повязка на глазах богини с мечом и весами, но красное полотнище баррикад стало его эмблемой. Трудную истину эту он унес в камеру. Но нельзя вспоминать о тюрьмах в такую минуту. Нары, параша и лазаретная койка едва не сломили его. В ссылку он уезжал, как на отдых, ощущая тяжелый груз молодых еще лет.
И всюду рядом с ним был Петерис…
— Судя по всему, оба мы почти не изменились с тех пор. — Плиекшан рассеянно улыбнулся. — А знаешь, Петерис, давай раз и навсегда выскажем друг другу в лицо все, что мы думаем.
— Ты уже высказал, Янис, и я благодарен тебе за чуткую мудрость. Ты все очень правильно понял. Зато я, возможно, наговорил глупостей. Это от беспокойства. Я ведь и раньше только и делал, что волновался за тебя. Есть одна существенная разница: у меня разум довлеет над чувством, а…
— Ерунда, — отмахнулся Плиекшан. — Хочешь знать, почему я именно сейчас еду в Ригу? За порывом души ты не разглядел холодного расчета, Петерис. Охранка ныне временно парализована. Жандармам не до меня, у них полон рот забот куда более важных. Никому и в голову не придет, что я вот так, с зубной щеткой в кармане, вылечу из клетки. Дуббельн — это настоящая клетка, притом не очень большая. Я связан здесь по рукам и ногам. За каждым моим шагом следят недреманные очи. Иное дело — в городе. Там я смогу принять непосредственное участие в событиях, отдать все силы и способности без остатка. Квартиру мне подыскали надежную, притом в самом центре… Почему нас так бросает? — Плиекшан высунулся наружу. — Где мы едем? — Он наклонился к извозчику: — Это что, объезд?
— Дорогу размыло. — Извозчик остановил лошадь и обернулся: — Трудная поездка, господа. Я рискую сломать рессоры, а лошадь рискует сломать ноги. Все имеет своя цена. Плюс забастовка, господа. Все кругом стоит, а вы имеете экипаж. Такие удобства нельзя не ценить.
— А почему бы и вам не поддержать стачку, герр дрожкенкучер? — поинтересовался Стучка.
— Я не могу себе такого позволить. У меня большая фамилия. И лошадь тоже хочет каждый день кушать овес. Попробуйте ей объяснить, что надо сидеть дома на одной соломе. Она, наверное, не поймет.
— Он не без юмора, этот немец, — заметил Стучка.
— «Хоть был латыш он настоящий, а с голоду подох», — Плиекшан процитировал Адольфа Алнуна. — Я уверен, что всеобщая забастовка охватит всех. Трамвайщики первыми поддержат железнодорожников. Повседневная жизнь все чаще развивается по логике революции. Одни слепцы сочтут нынешние события за стихию. Народ дал понять, что комедия с думой не для него. На столь тухлую приманку не клюнет даже буржуазия. Одни черные раки.