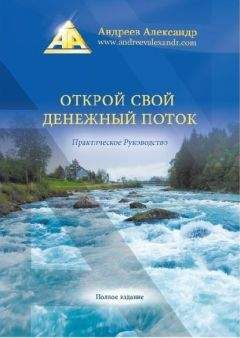Вадим Андреев - История одного путешествия
переходящее в плясовую:
Мчала баба суток пять,
юбки рвала в ветре,
чтоб баронский увидать флаг
на Ай-Петри.
Хотя те, кто (в тот вечер слушал Маяковского, знали, что образ Врангеля — худого, очень высокого, в черной папахе и длинной бурке — напоминает силуэт, вырезанный из черной бумаги, и не похож на жрущего семгу толсторожего генерала (кто-то из глубины зала даже крикнул: «Это вы Врангеля с Кутеповым спутали!»), — стихотворение произвело на русских жителей Берлина такое впечатление, что оно потом долго цитировалось по самым непредвиденным случаям: меняя доллары на черном рынке, говорили:
Наш-то руль не в той цене,
наш — в мильон дороже…—
заказывая ужин в ресторане:
…Дайте мне
Всю программу разом!
После «Бабы» Маяковский, подчиняясь все нарастающим требованиям, прочел отрывок из «Флейты-позвоночника»:
Версты улиц взмахами шагов мну… —
но как-то неожиданно оборвал себя, сказав, что он не любит своих ранних стихов, в которых слишком много «каков» («Улица провалилась, как нос сифилитика») и где образы выпирают из текста, прочел «Прозаседавшихся» упомянул о том, что под влиянием этого стихотворения вышел указ о сокращении заседаний, и перешел к поэме
Я еще раз убедился, сколько пропадает, сколько остается недослышанным и недопонятым, когда читаешь Маяковского глазами, — за несколько недель перед этим я прочел «150000 000», и поэма оставила меня равнодушным. То, что Маяковский называл «самоценными виньеточными образами», казалось слишком ярким:
Мы возьмем
и придумаем
новые розы —
розы столиц в лепестках площадей…
Они не сливались с текстом и затемняли его. Но эти же строчки, произнесенные самим Маяковским, перестают быть «виньетками», сливаются с основным замыслом поэмы. Маяковский, читая сатирическую главу об Америке, полную гипербол, от которых «захватило бы дух у щенка-Хлестанова», четко скандируя строки:
Русских в город тот
не везет пароход,
не для нас дворцов этажи…—
с необыкновенной естественностью переходил к строчкам «описательным»:
Отсюда начинается то, что нам нужно,—
«Королевская улица», по-ихнему
«Рояль-стрит».
Слух покорно соглашался с перебоями ритма, с неожиданными сложными рифмами, с речитативом и прозаизмами — все становилось естественным. Думалось — иначе и сказать нельзя, — но происходило это только в том случае, если Маяковский сам, своим голосом, даже выражением лица, убеждал меня.
Наступил перерыв, но голова моя все еще была полна плясовыми мотивами:
А стоит на ней —
Чипль-Стронг-Отель.
Да отель ли то
или сон?!
Я хохотал, вспоминая:
А одежда тонка, будто вовсе и нет,—
из тончайшей поэтовой неги она.
Кальсоны Вильсона — не кальсоны — сонет,
сажени из ихнего Онегина…
Я повторял отдельные строчки, стараясь запомнить то как они были оказаны. Мне казалось, что Маяковский одним своим выступлением разрушил мои сложившиеся с гимназической скамьи правила русского стихосложения.
16
Пастернак стоял несколько боком к залу, невысокий, плотный, сосредоточенный. Еще полный отзвуками голоса Маяковского, я не сразу услышал его и не знал, какое стихотворение он прочел первым. Первое, что проникло в сознание и запомнилось навсегда, было:
В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.
Я стал приглядываться к незнакомому мне поэту. Синий пиджак, сильно помятый, сидел на нем свободно и даже мешковато. Яркий красный галстук был повязан широким узлом и невольно запоминался, — впрочем, этот галстук у него, вероятно, был единственным: сколько я потом ни встречался с Борисом Леонидовичем в Берлине, всякий раз мне бросался в глаза острый язык пламени, рассекавший его грудь. Пастернак был красив и казался моложе своих тридцати лет. Но поражала не мужественная красота его лица, не яркость его открытых и блестящих глаз, ни даже черный костер волос, а застывшая энергия (о, на одно лишь мгновение!), сила скул, размах лба твердость высеченного из камня, крепкого рта. Кажется, Шкловский сказал, что Пастернак похож одновременно на араба и на его коня, — это очень верно, но только при условии, что араб натянул звенящие от напряжения удила и конь застыл, встав на дыбы.
Пастернак произносил слова стихов ритмично и глухо. Почти без жестов, в крайнем напряжении и абсолютной уверенности в музыкальной точности произносимого слова.
Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров пути
И мглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз, свести.
Конечно, я не понимал таинственного сцепления слов и уж конечно, прослушав стихотворение один раз, не мог пересказать его содержания.
Не он, не он, не шепот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что — стянута платком.
И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах…
Я слушал с величайшим напряжением, и вдруг «зал, испариной вальса запахший опять», встал передо много музыкальным видением. Я не понимал, и, несмотря на непонимание, конкретная зримость образов врезалась в память:
Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу…
Сколько раз я слышал слово «рубище», но вот только теперь я впервые увидел его!
…Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена…
И опять зримость образа становилась яркой до рези в глазах. Образы не связанных друг с другом стихотворений накладывались один на другой, не уничтожаясь взаимно и создавая неповторимую гармонию. Я верил Пастернаку «на слово», не мог не поверить его абсолютной искренности.
Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару…
А это откуда? Ведь этого стихотворения я не слышал?