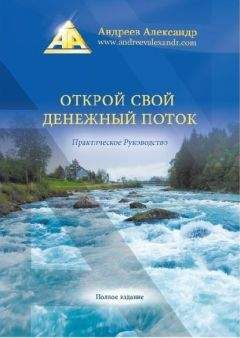Вадим Андреев - История одного путешествия
В тот вечер, в конце 1922 года, длинная зала кафе была переполнена. Среди многолюдной суеты промелькнул Кузатов в сопровождении двух дам, тщетно искавший свободный столик, Дуля Кубрик, широко распахнув дорогую шубу, поражал знакомых новым смокингом, за соседним столиком восседал банкир Р., внезапно проявивший интерес к изданию русских книг и основавший еще одно — сотое — издательство. Официанты, прозванные «хвароберами» (от немецкого Herr Ober), с ловкостью эквилибристов разносили пивные кружки с коричневым мюнхенским пивом.
О том, что будут выступать Маяковский и Пастернак, я узнал, уже усевшись поближе к эстраде, если только эстрадой можно назвать обыкновенный стол, покрытый зеленой скатертью и отделенный от мраморных столиков узкого и длинного зала кафе нешироким проходом.
К Маяковскому я относился настороженно — мне мешала необычность его стихов, легенда желтой кофты, еще продолжавшая в Берлине обрастать всевозможными небылицами, рассказы о скандалах, сопровождавших его выступления в петербургских и московских кафе. А о Пастернаке до того, как его имя было произнесено в тот вечер, я ничего не слышал.
Маяковский возник перед нами… появился, провозгласил о своем присутствии, — я не знаю, как сказать точнее, — внезапно и решительно. Уже в том, как он шагнул и одним шагом уничтожил пространство, отделявшее его от посетителей кафе, большой, красивый, — верхний свет люстры отбрасывал резкие тени на его мужественное лицо, — со всей неповторимостью широких и точных жестов, я почувствовал необычайное: одним шагом он утвердил себя как Маяковского-трибуна. Яков Хелемский в стихотворении, написанном в наши дни, после того, как он услышал «давние записи слабого качества», говорит:
Когда б — ни томов, ни блокнотов, ни вырезок.
Ни броских афиш, ни чеканных плакатов,
Когда бы пришлось эту силищу выразить
Лишь дальнему отзвуку горных раскатов,—
Мы все бы на слух ощутили и приняли —
И трубность трибуна, и ласковость брата,
И рост, и характер, и сердце ранимое,
Сверхчуткое, словно тончайший вибратор.
О том, как Маяковский произносил стихи, о его «ни с чем не сравнимом чтении с нажимом на «эр-р» и распеве упрямом», писали много и подробно; многие пытались подражать его чтению. Однако у подражателей ничего не получалось: стихи Маяковского и то, как он их читал, — это сумма целого ряда ему одному присущих свойств: голоса, в котором сочетались камень и влага (грохот обвала, но грохот особый, как будто все камни одеты мхом), ритма, созданного наперекор всем правилам классического стихосложения, особой выпуклости образов, которые можно ощупать руками, остроумия, где лезвие неожиданной рифмы сочеталось с умением ее использовать. Все эти свойства сливались в одно неразделимое целое. Стихи Маяковского, произнесенные голосом, более высоким, или более низким по тембру, или с пропуском хотя бы единой паузы, на которую указывает знаменитая «лесенка», — теряют свою неотразимость. Те, кто не слышал самого Маяковского, никогда не смогут вполне оценить его стихи во всем их неудержимом размахе.
Маяковский произнес заглавие стихотворения скороговоркой, как будто спеша добраться до сути:
— «Необычайное приключение… бывшее с Владимиром Маяковским на даче…»
И вдруг:
В сто сорок солнц закат пылал…
Слова невидимыми глазу глыбами падали к подножью горы:
…жара плыла…—
это уже последние отзвуки грохота. Потом, в наступающей тишине, совсем обыденное, сказанное разговорным голосом:
…на даче было это.
И дальше все тем же поясняющим, прозаическим голосом:
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою…
Но вот снова наливается тяжестью и крепнет огромный голос:
…а за деревнею
дыра,
и в ту дыру, наверно…
«Наверно» становится настолько зримым и вещественным, что мелькает мысль: такое слово должно писаться через «ять», букву твердую, как гранит.
…спускалось солнце каждый раз…
Голос звучит из-под земли, из самых недр ее:
…медленно и верно.
Но вот слова начинают освобождаться из-под придавившего их каменного пласта, как рабочие, выходящие из горла шахты, и поднимаются все выше, до:
…я крикнул солнцу:
Слазь!
Выше уже некуда, — выше обрывистый склон вершины, но голос продолжает подниматься, не считаясь с законом земного притяжения, до невероятного:
…ко мне
на чай зашло бы…
Гроза разражается в безоблачном небе, с молниями и громом:
…Что я наделал!
Я погиб!
Нет, это не стихи, во всяком случае, не то, что мы привыкли называть стихами, это нечто новое, не укладывающееся ни в какие рамки, нечто, чему нельзя подобрать точного определения, но что неопровержимо в своем самоутверждении и сверхчеловеческой силе.
О том, как произносил Маяковский конец своего «Солнца», мне пришлось читать несколько разноречивых свидетельств. Возможно, что он исполнял его по-разному, но в тот вечер он сказал последние слова так, что восклицательный знак, стоящий в конце стихотворения,—
Вот лозунг мой — и солнца! —
хотелось бы поставить после слова «мой», а после «солнца» — многоточие. Но может быть, именно в этом и заключалось чудо чтения Маяковским своих стихов: хотя «солнце» было произнесено не громогласно, а как-то «в сторону», скороговоркой, оно все же оставалось самым главным, ключевым словом стихотворения.
После долгих аплодисментов, — аплодировали все: и Кузатов, и банкир Р., и вездесущий Александр Берг, — сквозь плеск последних хлопков в зале раздались голоса, просившие прочесть «Облако в штанах», «Флейту-позвоночник». Голоса множились, но Маяковский прочел «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала безо всякого ума», — Маяковский не забывал, что он читает стихи в Берлине и что перед ним эмигранты, бежавшие из Советского Союза. Он решительно плыл против течения. И опять произошло чудо: обыкновенный хорей, тот самый, которым написан «Конек-Горбунок» (в этом стихотворении всего два перебоя: «и белая мучица» и «флаг на Ай-Петри»), превратился в нечто совсем новое, внеразмерное: