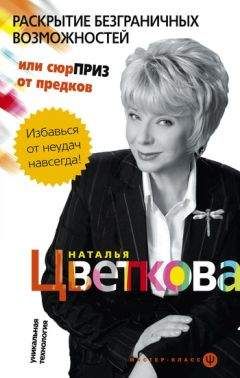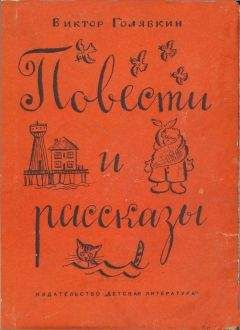Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
Тогда Сталин подошел к возвышению вроде трибуны и громко повторил:
– Охвостье.
Встреча была окончена, мы все стали расходиться, а Авдеенко остался, не зная, что ему делать. Какой-то полковник спросил его: «А вы что стоите?»
Тот пробормотал что-то вроде того, что его, наверное, должны арестовать. Полковник сказал: «Идите себе спокойно домой». И ничего больше потом с Авдеенко такого не случилось.
И я понял, что Сталин все-таки прохвост, арап, который говорит как бы по наитию. – Катаев обвел нас всех взглядом, словно проверяя, поверили ли мы этому его прозрению. – Была, – продолжал он, – и еще одна встреча.
Катаев выступал на этой встрече и похвалил какое-то литературное произведение, а Сталин прервал его и стал критиковать эту вещь. Потом замолчал и сказал:
– Ну, продолжайте, товарищ.
– Он, по-моему, даже не помнил в тот момент моей фамилии. И тут я сказал, что после того, как товарищ Сталин так блестяще закончил мое выступление, мне нечего добавить.
Все замолчали. Как я потом узнал, это было воспринято присутствующими как дерзость. А он вдруг засмеялся и махнул рукой. Это меня спасло. Но потом я почувствовал, как меня потихонечку стали подтравливать.
…В один из вечеров я явился к Катаевым с экземпляром только что вышедшей моей книги – «Строгая литература».
И надо же было тому случиться, что, прочитав не без удовольствия дарственную надпись, Валентин Петрович раскрыл книгу на очерке о Симонове.
– «Страсть к настоящему»? – повторил он с непередаваемой гримасой, которой позавидовал бы любой артист-комик.
Я стоически перенес эту его реакцию, а когда за столом разговор естественным образом вернулся к книге, я, мысленно перекрестившись, перевел его на Симонова. Я в ту пору начал работать над сценарием к двухсерийному документальному фильму о Константине Михайловиче, и упустить шанс поговорить на эту тему с Катаевым было бы непростительно.
Сказал для затравки, что в Париже, куда мы все ездили на всемирный конгресс авторско-правовых обществ, Симонов очень хорошо говорил об Эстер и Валентине Петровиче.
Он взъерошил челку, которая в спокойном его состоянии трезубцем спускалась на лоб. «Поздно уже зачесывать волосы назад», – объяснил он как-то мне этот фасон.
– Самое ценное в Симонове – это то, что он во время войны действительно не боялся смерти. И сумел поведать об этом. Нам – «об этом». Он сделал особое ударение и действиями своими, и произведениями.
Я с облегчением перевел дух. Мариэтта Шагинян мне говорила: когда пишешь о чем-то, надо влюбиться в предмет. И я влюбился и переживал за своего героя, как за самого себя.
– Это вызывало к нему уважение. Но в принципе – рептильный человек, который служил всегда всем веяниям времени. Искал заступничества у сильных. Этим объяснилась и его женитьба на Серовой, которая была вдовой летчика-героя Серова и, как все другие вдовы таких людей, например Чкалова, опекалась Сталиным.
Я уже не раз и от многих слышал эту версию, и у меня было что возразить в духе того, что «не все так просто», но в разговор опять энергично вклинилась Эстер и перевела, не без умысла, думаю, стрелки на Серову, назвав ее своей лучшей подругой, святой женщиной.
Ее энергично поддержала Женя, у которой сохранились девические еще воспоминания о том, как удивительно было видеть на экране эту красивую, благоухающую, смеющуюся женщину, фею, которая только вчера была у них дома.
Женя рассказала о своей первой, нечаянной встрече с ней. Она была с мамой в Мосторге и потерялась. И глаза уже были у нее на мокром месте, когда ее подхватила какая-то женщина, повела с собой, усадила в черный «линкольн» (она только потом узнала, что это за машина) и привезла домой, на Лаврушинский.
– У себя дома, – вел свою партию Катаев, – он устраивал культ Симонова: Симонов работает, Симонов творит. Симонов принимает гостей.
В этой семье не знали слова «нет». Он приходил каждый вечер с кучей бутылок и собутыльников.
– Но когда он разошелся с Валей и женился на Жадовой, она мигом разогнала всех его друзей, – вставила Эстер.
Заодно с Симоновым досталось и Сергею Михалкову. Много обещал несколькими хорошими ранними стихами, в том числе и «Дядей Степой», а потом пошел по проторенной дорожке. Попал в семью Ворошилова, а через нее заявил о себе в высших сферах.
– Такие люди, как Симонов и особенно Михалков, прекрасно умели находить и использовать в своих интересах слабину системы, – несколько загадочно резюмировал он.
Мне нечего было сказать в защиту Михалкова, быть может, только то, что его «Кораблики», куда входил и «Дядя Степа», была первой книгой в моей жизни, которую я прочитал. И первой, которую я попросил в библиотеке, куда меня записали вопреки правилам за мою страсть к чтению в возрасте пяти с половиной лет.
Но о Симонове я рассказал, как мужественно он умирал и как в завещании распорядился поступить после его смерти. К моему удивлению, Катаевы в тот вечер, в июле 1980 года, почти через год после смерти Константина Симонова, услышали об этом впервые. Эстер Давидовна даже всхлипнула и сказала, что все эти муки ему, бедному, даны были за Серову.
Катаев, пробурчав было что-то о желании утвердить себя и после смерти, под влиянием жениных слез смягчился и признал, что «в принципе такая манера существует». В Лондоне прах балерины из русских эмигрантов был высыпан на большую клумбу, где была посажена роза. В таком роде распорядились собой, как он выразился, многие.
Я внимал ему и невольно вспоминал, что приходилось слышать о нем самом от других.
– Катаев? – экспансивно переспрашивала Мариэтта Шагинян. – Какой богоданный талант. Но какой без принципов и без совести человек. Змея как ни повернется, все блестит.
И тут было не только осуждение, но и восхищение им. Как и почти во всех других оценках, которые довелось услышать в те месяцы нашего интенсивного общения, которое прервалось с моим отъездом в Стокгольм.
Я уже смирился с тем, что злословие – отличительная черта писательского сообщества. Боюсь, что в нашей стране это относится не только к советскому периоду. Какие стрелы мета ли друг против друга титаны Лев Толстой и Тургенев! А почи тайте мемуары Авдотьи Панаевой. Во многом это объясняется самим характером писательского труда: писатель – кустарь-одиночка, который, если он не халтурщик и не графоман, рождается и умирает с каждым новым своим детищем.
Услышанное где-то мотто: в конце концов, каждый у самого себя на свете один-единственный – больше всего относится именно к рыцарям литературного труда.
Особенность советского периода – не говорить правды в лицо. Ни в повседневном общении, ни с трибуны. С трибуны, под давлением властей, и из других привходящих соображений поносили и тех, кого на самом деле ценили и даже любили. Константин Симонов, увы, дал тому немало примеров. В повседневном общении курили фимиам тем, кого ненавидели, но уж наедине, в узком кругу семьи или поклонников, давали себе волю.
![Дарья Ардеева - Запретные территории [СИ]](/uploads/posts/books/77022/77022.jpg)