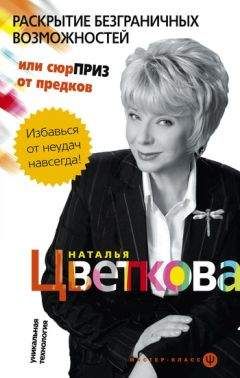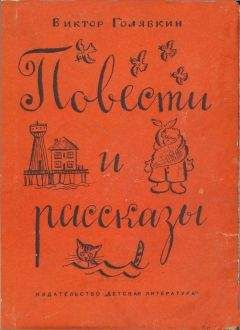Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
– Тут замешан был Дзержинский, который наверняка был троцкистом, и уж наверняка – левым эсером.
«Вертер» – это восстановление событий. «Алмазный мой венец» – восстановление имен, а «Вертер» – восстановление событий. Вот и все… Имена исторических лиц, для меня уже густо покрытых патиной времени, Катаев произносит с продолжающей ошеломлять непринужденностью. Они для него – современники, пусть и постарше возрастом.
Вот заговорили за столом об очередном фильме, о Борисе Савинкове, которого, на взгляд всех присутствующих, великолепно сыграл Евгений Лебедев.
– Как ни старались режиссер со сценаристом, Савинков у него получился положительным героем, сильной личностью, – сказал Павлик, явно сочувствуя такой трактовке одного из самых непримиримых ненавистников советской власти.
– Савинков, – возразил, нет, не возразил, а просто констатировал Валентин Петрович, – был совсем не такой человек, каким его показывают. Абсолютно не такая крупная личность. Он был пошляк (самое страшное обвинение в устах Катаева), обыватель, ужасный эгоцентрист, самовлюбленный.
Невнятное, но явно протестующее бормотание за столом.
– Он в Первую мировую войну был обыкновенным офицериком, разведчиком. Лебедев – прекрасный артист, но он совсем не того играет. В восемнадцатом году Савинков потерпел полный провал, его банды были разбиты, он вынужден был бежать.
Слышится реплика за столом, что, мол, каким бы Савинков ни был, одного у него не отнимешь – он точно знал, чего он хочет…
– А я вот, – поднимает свои сутуловатые плечи Катаев, – с трудом себе представляю, чего бы он мог хотеть, кроме славы, власти и лести… С белогвардейцами, у которых была ясная программа, он был в кровной вражде. Они откровенно говорили: вот вернемся, не одних только большевиков к стенке поставим, всех, кто расшатывал. С большевиками он боролся. Чего же принципиального он мог хотеть? Он ко всем примазывался, чтобы потом взять верх. Был с Керенским, вошел в сговор с Корниловым, потом пытался столковаться с левыми эсерами.
Его не было. Он уже не существовал. Зачем, собственно, надо было его вытаскивать из эмиграции, по существу, поднимать? Дзержинский вызвал его из небытия. Видите ли, нашел его опасной фигурой. Интеллектуалом. Даже консультировался по этому поводу с Луначарским. Еще одним большим интеллектуалом.
А теперь снова – и книга, и фильм. Второе воскрешение.
– Тут уж явно ведомственные интересы, – полусогласился с отцом Павел, имя в виду КГБ.
– Дзержинский вступил в партию в восемнадцатом году. Троцкий – в семнадцатом. Это была одна компания. – Катаев великодушно оставляет спор неоконченным и с удовольствием окунается вновь в свою излюбленную стихию – рассказчика.
– Когда убили Мирбаха, мы были в Одессе. И Олеша сразу сказал – это Яшка. Меня всегда поражала его способность провидеть. А он сам, когда это через нескольхо дней подтвердилось, даже не удивился и не вспомнил о своем заявлении.
Блюмкина выпустили из тюрьмы после убийства Мирбаха через два месяца, а между тем председатель Совета народных комиссаров, когда приходил извиняться, дал гарантии, что убийца Мирбаха будет расстрелян.
О событиях чуть ли не семидесятилетней давности он говорил так, как будто они случились пару лет назад.
– Сам Блюмкин был одесский еврей. Он был немного моложе меня. Бедная еврейская семья, три сына. Старший – репортер и агент охранки. Средний – как раз Блюмкин. Он все время мечтал о переворотах и говорил, что дома под кроватью у него лежат бомба и револьвер.
По словам Валентина Петровича, Блюмкин, живя в Одессе, с детства шился около людей знаменитых. Но знаменитых тогда там было немного, поэтому он шился и около него, Катаева, который только-только опубликовал первые стихи. И тогда же задумал вещь в прозе – «Жизнь Яшки», то есть Яшки Блюмкина.
– Мы думали, его тут же расстреляют. А он через некоторое время появился в Одессе. Ну, не таким уж большим начальником, как Наум Бесстрашный (персонаж из «Бергера». – Б. П.), но с какой-то особой миссией, а какой, мы не знали. Всегда он был чекистом. Ходил в форме, с шевронами.
Позднее, примерно в году двадцать третьем, мы возобновили знакомство в Петербурге, и там он мне рассказал всю историю убийства Мирбаха. Он действовал от левых эсеров, прикрывался званием чекиста. Его сообщник Андреев и он долго готовились к этому. Запаслись удостоверением, которым им поручалось проверить проводку в посольстве, а затем провести переговоры с Мирбахом по поводу его племянника, арестованного ЧК.
А для того чтобы их липовое удостоверение было истинным, они пробрались ночью в кабинет Дзержинского, который в это время спал за ширмой, и поставили печать.
Вначале побывали в особняке посольства, чтобы изучить расположение комнат. Потом уже появились как посланцы ЧК для беседы о племяннике Мирбаха. Сидели с ним за столом, и он выяснял, что, собственно, они от него хотят.
Блюмкин рассказывал, что он наряду с револьвером привез с собой какую-то бомбу, которая сильно шипела, лежа в портфеле. Разговор подошел к тому моменту, когда надо было уже что-то предпринимать, но они, «мы», говорил Блюмкин, долго не решались. Вдруг Блюмкин выхватил револьвер и сделал несколько выстрелов. Посол упал со стула, а они выскочили в приемный зал. Там никто не слышал выстрелов. И дикий же у них был вид с револьвером, дымящимся в руке Яшки.
Несколько минут провели в растерянности, вдруг открывается дверь, и на пороге появляется окровавленный Мирбах. Согнувшись, он говорит что-то. Тут они поняли, что надо кончать, и Блюмкин бросил бомбу между собой и Мирбахом. От взрыва упал Мирбах, а их, как он рассказывал, выбросило в окно. Они оказались во дворе, прорвались мимо часового, который в них стрелял и слегка ранил Андреева, и попали в Покровские казармы, где уже начинался мятеж левых эсеров. Это было 6 июля 1918 года.
Вся эта история, о которой я, как и каждый мой соотечественник, читал, разумеется, десятки раз, в самых разных вариантах, теперь, в устах Валентина Петровича, звучала так, словно я слышал о ней впервые в жизни. В его завораживающем рассказе хотелось верить каждому слову.
Именно так, слово в слово, по горячим следам я записал ее и вставил в свое эссе для «Нового мира».
Историю с убийством посла Блюмкин поведал своему земляку под ужасным, любимое словечко Катаева, секретом и велел, «чтобы я, уж конечно, никому не рассказывал». Но я, конечно, не выдержал и на следующий же день написал повесть «Убийство имперского посла» и тут же отнес ее в «Молодую гвардию», где у меня был знакомый редактор Моня Зоркий, и одновременно отправил рукопись в Ленинград в журнал «Аргус».
![Дарья Ардеева - Запретные территории [СИ]](/uploads/posts/books/77022/77022.jpg)