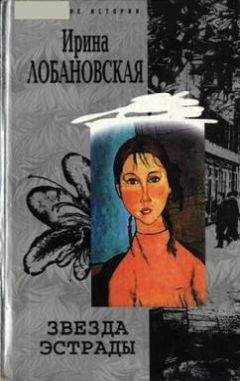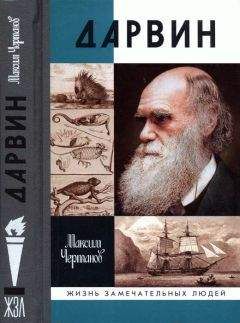Максим Чертанов - Диккенс
Эллен, вероятно, тогда еще не сказала окончательного «да», возможно, вообще ничего толком не сказала, так как в письмах друзьям Диккенс говорил только о страдании, о муках. Коллинзу, 21 марта: «Донкастерское несчастье все еще так сильно, что я не могу писать, не могу успокоиться ни на минуту. Никто никогда не был так истерзан, так одержим одним неотвязным видением». Макриди, 22 марта: «Вчера приснилось мне, что я связан по рукам и по ногам и изо всех сил пытаюсь преодолеть бесконечный ряд барьеров. Не правда ли, очень похоже на явь?» Форстеру, 12 апреля: «Раз и навсегда откажитесь от мысли о том, что мои домашние дела можно изменить к лучшему. Их ничто не поправит. Легче умереть и снова воскреснуть. Я могу стараться, и пробовать, и терпеть, и заставлять себя видеть только хорошее, делать хорошую мину при плохой игре или плохую мину при хорошей игре — теперь дело совсем не в этом. Все кончено раз и навсегда. Напрасно было бы думать, что я могу что-то изменить или питать какие-то надежды. Меня постигла горькая неудача: с этим нужно смириться, и точка».
Наиболее интересное, с точки зрения биографов, письмо он отослал Анджеле Бердетт-Куттс 9 мая: «Я полагаю, что мой брак в течение многих лет был несчастен, как никакой другой. По-моему, нет двух людей с такой невозможностью взаимного интереса, симпатии, доверия, чувства, нежности, союза любого рода, как между моей женой и мной. Это огромная беда для нее, это огромная беда для меня, но Природа положила меж нами непреодолимый барьер… Мы практически разделены уже давно. Мы должны отдалиться сильнее, так, как это невозможно устроить, живя в одном доме». А дальше идут чудовищные обвинения в адрес Кэтрин: «Если бы дети любили ее или хотя бы когда-то любили ее, разрыв был бы проще. Но она никогда не привлекала ни одного из них, никогда не играла с ними в младенчестве, никогда не вызывала их доверия, когда они взрослели, никогда не была матерью. Я видел, как они от нее отчуждены, и Мэйми и Кейти (самые милые и ласковые девочки) просто окаменевают, когда надо находиться рядом с ней, и их сердца словно закрываются».
Сравните со словами Кейт: «…отец был злым человеком — очень злым»; «Моя бедная мать боялась моего отца. Ей никогда не разрешали выразить свое мнение, никогда не позволяли говорить, что она чувствовала». А вот воспоминания Генри: «Всегда была странная сдержанность со стороны отца… Так получилось, что, хотя его дети знали, что он предан им, своеобразная сдержанность с его стороны, казалось, проходила меж нами в виде облака. Я этого в нем никогда не понимал». И сам Диккенс: «У меня появилась… склонность бояться проявления нежности даже к собственным детям, лишь стоит им подрасти…» Так кто от кого был отчужден, кто с кем рядом окаменевал? Разобраться в этом невозможно. Пирсон: «Диккенс вместе с Форстером решили между собой, что Кэт не годится на роль воспитательницы собственных детей. Как могла она отказаться от материнских обязанностей, если ей не дали даже взяться за них? Кроме того, нет никаких доказательств тому, что младшие дети не любили ее, а из трех старших, которых отец посвятил во все, двое — Чарли и Кейти — были на стороне матери, и лишь Мэйми приняла сторону отца».
И все же вероятно, что Кэтрин, с ее послеродовыми депрессиями, которые лечили отнятием у нее детей, была плохой матерью. Но зачем надо было докладывать об этом посторонней женщине, причем именно в тот момент, когда появилась любовница? Далее Диккенс писал Анджеле, что Джорджина всегда видела, как плохо ему с женой, а покойная Мэри с одного взгляда это поняла (что же он ждал столько лет?), и продолжал обвинять жену: «Я думаю, что она всегда пыталась что-то вслепую нащупать во мне и никогда не понимала меня, и от этого впадала в ревность. Кроме того, ее ум временами мешался». Мисс Куттс он не убедил, и та в течение десяти дней делала героические попытки примирить супругов.
Как раз в 1857 году в парламенте обсуждали законопроект о браке, в соответствии с которым разрешался гражданский (но не церковный) развод. Он разрешался, если один из супругов публично (в суде) обвинял другого в неверности (или брал эту вину на себя). Обвинить Кэтрин, даже если и хотелось, было просто невозможно. Брать вину на себя, как оно было на самом деле, Диккенс не захотел — репутация! Оставалась процедура раздельного проживания, которое тоже оформлялось юридически. При этом дети (как и жена) считались собственностью отца; замужние женщины не имели никаких прав, в том числе на алименты. Мнение детей, разумеется, не учитывалось, но дети Диккенса, по-видимому, были согласны остаться с ним и веселой тетей Джорджиной. Кейт (из рассказа Глэдис Стори): «Мы поступили очень плохо, отказавшись от нее. Гарри [Генри] так не считает, но он в то время был еще ребенком и не понимал, какое это было горе для нашей матери — потерять всех нас сразу. Мама никогда меня не ругала. Я никогда не видела ее в дурном расположении духа».
Утром 10 мая 1858 года Диккенс сказал Чарли, что они с матерью расходятся, и, забрав Плорна и девочек, уехал в Гэдсхилл. Кэтрин спустя неделю уехала к своей родне. (Поводом к окончательному разрыву, возможно, был браслет для Эллен, ошибочно присланный Кэтрин.) Чарли был совершеннолетним и мог выбрать, с кем ему жить. Он последовал за матерью и написал отцу: «Я боюсь, что Вы меня неправильно поймете… не думайте, что я сделал выбор потому, что предпочитаю мою мать Вам. Господь знает, что я нежно Вас люблю, и для меня трудно расстаться с Вами и девочками. Но я решил исполнить свой долг, и, надеюсь, Вы это поймете». Так что, похоже, Пирсон был не прав, утверждая, что Чарли принял сторону матери, потому что им двигали не эмоции, а верно понятое чувство долга. (С другой стороны, возможно, он просто боялся обидеть отца.)
Джорджина сразу, не колеблясь, уехала с Диккенсом и детьми; 31 мая она написала Марии Биднелл-Винтер чудовищно лицемерное письмо: «Чарлз и его жена согласились жить отдельно. Верьте мне, так будет лучше для всех. Я пыталась предотвратить это, пока видела такую возможность, но недавно я осознала, что не было никакого другого выхода из внутреннего страдания, царившего в этом доме. Моя сестра и Чарлз жили несчастливо в течение многих лет — они совершенно не подходили друг другу во всех отношениях, — а когда дети выросли (Плорну было всего пять лет; но не могла же Джорджина написать правду: „когда Чарлз влюбился в другую“, это было табу. — М. Ч.), все только усилилось. К несчастью, моя сестра бросала детей с младенчества на других людей, следовательно, между нею и ими не было связи. Моя сестра часто выражала намерение уйти, Чарлз никогда на это не соглашался, но недавно он подумал, что так будет лучше для самой Кэтрин и для всех… У нее будет дом в Лондоне, и мы решили, что Чарли будет жить с ней. У Чарлза хозяйкой дома будет, конечно, Мэйми. (Это пишет давняя фактическая хозяйка дома. — М. Ч.) Конечно, Чарлз — человек общественный, и до Вас дойдут дикие слухи и злобная клевета. Мы, немногие настоящие друзья Чарлза, обязаны заставить замолчать любого, кто будет распространять такую ложь и клевету». (А зачем Диккенс сам рассказывал встречным и поперечным о своей любви к «принцессе»?)