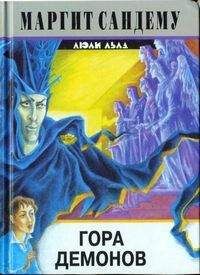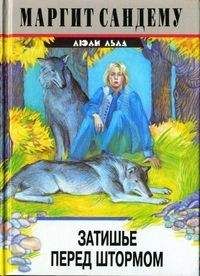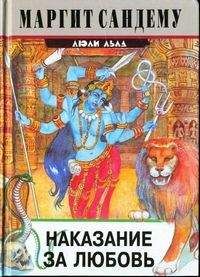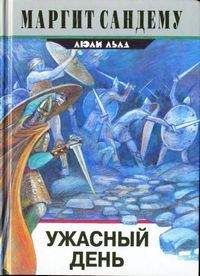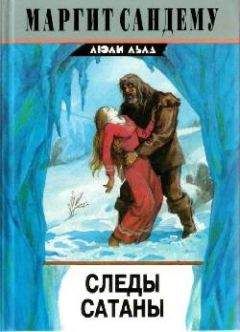Ирэн Фрэн - Клеопатра
Оратор, как и все люди его круга, был вовлечен в водоворот событий, перевернувших жизнь Города. Каждый день что-то происходило, политическая ситуация становилась все более запутанной, а предугадать настроения плебса было невозможно.
Цицерон развил бурную деятельность: ему исполнилось шестьдесят, и смерть Цезаря давала ему последний шанс достичь цели, к которой он стремился на протяжении последних десятилетий: стать спасителем агонизирующей республики.
Однако всякий раз, как он заканчивал свои (построенные по всем правилам классической риторики) выступления в храмах и на площадях, нечто, чему он не мог противиться, побуждало его наводить справки о царице.
Представьте себе: царица продолжает оставаться в городе, где ничто ее не задерживает, даже готовность кораблей, — ведь диктатор и она еще накануне убийства планировали через трое суток отплыть на Восток.
Логично предположить, что Клеопатра собиралась дождаться оглашения завещания Цезаря, церемонии, которая состоялась через два дня после гибели императора, 17 марта, а потом — его похорон, 20 марта. Однако и в середине апреля она все еще находилась в Городе, хотя никакое официальное постановление не препятствовало ее отъезду. Ни один политик не попытался воспользоваться смертью ее покровителя, чтобы оказать на нее какое-то давление и таким образом наложить руку на Египет; ни у одного противника Цезаря даже и в мыслях не было сделать ее заложницей.
С другой стороны, никто ее и не гнал: ничто не свидетельствует о том, что ее дальнейшее присутствие в Риме рассматривалось как нежелательное. Клеопатра имела полную свободу действий. Потому что на нее просто не обращали внимания. Римляне плевать хотели на то, остается она или уезжает. У них были другие заботы. Интересовался ею один Цицерон.
Вывод напрашивается сам собой: если, вместо того чтобы вернуться в Александрию, царица Египта через три недели после погребения Цезаря все еще находится в Риме, значит, ее удерживают там какие-то важные соображения. В условиях политической неразберихи никто за нею не следит. Никто, кроме одного человека, который в предшествующие месяцы, проводя долгие вечера в Трастевере, не мог устоять перед чарами ее культуры, молодости, обаяния и презрительной иронии: кроме старого лиса Цицерона.
Если верить ему (а он не формулирует свою мысль прямо, но она легко прочитывается между строк, потому что Цицерон говорит о царице — даже после ее отъезда — только в уклончивых и двусмысленных выражениях), Клеопатра представляла для Города скрытую угрозу. Он никогда не уточняет характер этой угрозы, ибо последняя, как и убийство Цезаря, по сути есть infandum — нечто, не передаваемое словами. Однако ни один документ не подтверждает того, что Клеопатра тогда занималась какими-то интригами. Чем же было опасно для Рима это затянувшееся пребывание иностранной царицы?
Никакой загадки здесь нет: в этоц женщине, еще недавно так больно задевавшей его тайные слабости, оратор теперь видит мать ребенка, который, повзрослев, возможно, отмстит Бруту, — и еще политика, достаточно талантливого, чтобы в нынешние тревожные дни склонить чашу весов в пользу ненавистной ему партии. Тем более что, согласно не поддающимся проверке новым слухам, она опять беременна от Цезаря. Предполагаемый второй ребенок Клеопатры беспокоит Цицерона не сам по себе, а с точки зрения той выгоды, которую столь амбициозная и способная женщина может извлечь из своего материнства: она наверняка попытается возродить великий проект Цезаря — проект создания универсальной монархии.
И старый пройдоха прав. В сгущающихся над Римом сумерках только он один ясно видит: Клеопатра принадлежит к числу тех, кто, однажды решив осуществить свою мечту, уже никогда от нее не отречется. И если она осталась в Риме, вместо того чтобы поспешить домой, куда, казалось бы, все ее призывает, значит, она ищет способа приблизиться к своей цели.
Ищет что-то — или кого-то.
* * *Антония? Это исключено. В первые часы после убийства он думал только о том, как спасти собственную шкуру. Он чуял опасность и не верил Бруту, который заявил, что месть не распространится на сторонников Цезаря.
Как только Антоний услышал, стоя у крыльца курии, новость об убийстве, он бросился бежать по прямым улицам, примыкающим к Форуму. В первом же переулке он, словно герой плохого романа, сорвал тунику с какого-то раба, поспешно напялил ее на себя, опустил капюшон на лицо и, наконец добравшись до дома приятеля, забаррикадировался изнутри.
Целый день он провалялся в прострации, не в силах шевельнуться, проронить слово, — как человек, которого ударила молния; а главное, был совершенно не в состоянии принять хоть какое-то решение в самый ответственный момент, когда Рим погружался в хаос.
Сами заговорщики не имели плана действий на ближайшее будущее: как это ни парадоксально, все настолько привыкли полагаться на политическую дальновидность Цезаря, единолично распоряжавшегося судьбами мира, что убийцы и не заглядывали вперед дальше его смерти… Как только первое оцепенение прошло, народ собрался на Форуме и потребовал у них отчета. «Освободители» — так называли себя сами заговорщики — испугались и поднялись на Капитолий. Долабелла, хотя и был старым боевым товарищем Цезаря, присоединился к ним; и если бы Лепиду не хватило хладнокровия вызвать на Форум солдат, чтобы они сдерживали возмущенную толпу, римляне взяли бы штурмом священный холм и прикончили убийц.
Итак, резни удалось избежать. Известие ли об инициативе Лепида вырвало Антония в ту опасную ночь из состояния прострации? Во всяком случае, едва услышав новость, он пробудился от летаргического сна и за несколько часов, проявив виртуозную ловкость, сумел взять ситуацию в свои руки. Он, например, вступил в переговоры с Брутом и в знак своей доброй воли отправил к нему в качестве заложника собственного сына — ребенка, которому еще не исполнилось и года. Сенаторы единодушно одобрили его предложение о проведении на следующий день заседания в храме Земли.
К Антонию явно вернулось самообладание: прежде чем произнести свои умиротворяющие речи перед убийцами, он тайно отправил гонцов к ветеранам Цезаря, рассеянным по всей Италии, призывая их как можно скорее вернуться в Город. С согласия Кальпурнии и ее отца, которые видели в нем единственного военного, способного отмстить за Цезаря, он также перенес в свой дом шкатулку с деньгами императора — подлинное золотое дно. И, что еще более важно, забрал все его архивы, в том числе и документы, касающиеся парфянского похода.
Для Клеопатры эти бумаги были бы бесценны. Но что хорошего могла она ждать от человека, который, когда разразилась буря, повел себя как последний трус? Впрочем, надо еще посмотреть, что он предпримет дальше.