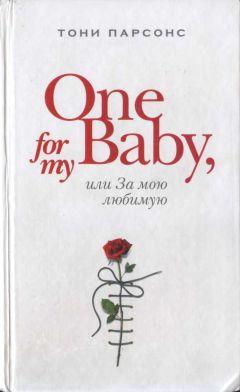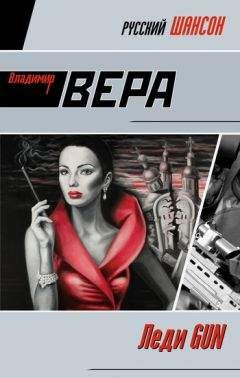Борис Соколов - На берегах Невы
— Будь осторожен, — предупредил меня Майданский, — И не натолкнись на Григория. Я только позавчера встретил его в публичной библиотеке, и он до сих пор ещё в городе. Иногда, когда он в городе, он останавливается в их доме, мне кажется, чтобы досадить Николаю.
Таким образом, я отправился к Пятаковым. Майданский подвёз меня к дому.
— Будь осторожен, Пятаковы очень взрывоопасны в политическом смысле, — ещё раз предупредил он меня и уехал.
Улица на высоких холмах, окружающих Киев, была очень приятная. Было как-то странно тихо под высоким липами, которые толпились в переулках. Не было ни звука, ни голосов, и не видно никого. Название улицы было Подлипная — и она была таковой, и как бы, предавалась медитации. Дом Пятаковых, большой и белый, был в колониальном стиле и имел два крыла. Его украшали мраморные подоконники, и он тоже, как и улица, молчал. Вокруг дома был большой вишнёвый сад и кусты чайных роз.
Я позвонил в звонок. Сначала никто не отвечал, но затем массивная дверь медленно приоткрылась, и старый слуга впустил меня в вестибюль. Я попросил доложить меня Николаю Пятакову. Слуга был глух, и мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы растолковать ему. Он сказал мне идти за ним, и еле-еле передвигаясь, провёл меня в большую, полутёмную комнату с массивной мебелью. Через несколько минут вошёл Николай Пятаков. Мне он сразу понравился. Очень высокий, блондин, он смутно напоминал брата Михаила, но без его обиженного выражения лица. Он был чисто выбрит; прямолинейный и открытый он произвёл на меня впечатление своей искренностью и живостью. «Вот настоящий человек, образец своей человеческой расы!» — подумал я.
Мы сидели у камина и пили украинское вино, принесённое слугой. Мы говорили о России и большевизме, украинском национализме и его сахарном бизнесе, который процветал несмотря на хаос. Мы говорили о Бунине и Куприне. Мы говорили о его надеждах и планах. Его разговор был ободряющим, а его идеи здравыми и полными смысла. И тем не менее, беседуя с ним, у меня было впечатление, что я беседую с человеком, который скоро умрёт. Это было, одно из самых странных ощущений, которые я когда-либо испытывал. Этому ощущению не было объяснения. Однако у меня никогда не было такого сильного предчувствия и, я надеюсь, больше не будет никогда. Это было пугающее и неприятное чувство. Передо мной сидел молодой, полный жизни человек, обречённый умереть. Меня настолько потрясло это предчувствие, что я не в состоянии был слушать то, что он говорит.
— Вы чем то обеспокоены? — спросил меня Николай, улыбаясь.
Я отнекивался.
— Вы собираетесь в Петербург?
Я кивнул.
— Вы Керенского знаете? Вы увидите его?
— Я мог бы. Я знаю его хорошо. Я мог бы, если необходимо.
— Необходимо. У меня срочное послание Керенскому, послание чрезвычайной важности. Я собирался ехать сам, но мне сейчас нужно быть в Киеве. Могу я на вас рассчитывать? — спросил он с беспокойством.
Я уверил его в том, что я доставлю его послание Премьер-Министру. Затем с неохотой он вспомнил историю с его братом Григорием, который связался с коммунистами и сразу стал близок к Ленину.
— Его ненависти к семье и всему, что с ней связано, трудно поверить. Однако он держит здесь свои комнаты и останавливается тут, когда он в Киеве. Почему? Я не знаю. Возможно, это часть его конспираторской деятельности. Григорий приехал в Киев несколько дней назад, — сказал он несколько возбуждённым образом. — К нему много приходили всё это время, и несколько собраний было в обстановке строжайшей секретности.
Николай признался, что он настолько стал подозрительный к деятельности брата, что обыскал его комнату, когда тот отсутствовал.
— Я никогда раньше не делал такие постыдные вещи, но я чувствовал как гражданин, что мне необходимо знать в чём причина всего этого ажиотажа.
Он нашёл документ в столе Григория. Это было письмо Ленина Григорию Пятакову, написанное собственной ленинской рукой. Письмо извещало, что вооружённое восстание против правительства Керенского планируется на 16 октября; и что он, Григорий, должен организовать группу в пятьсот большевиков, вооружить их и обеспечить их прибытие в Петербург за несколько дней до 16 числа.
— Вот само письмо, — сказал Николай, передавая его мне.
Я в изумлении замер. У меня перехватило дыхание. Ко мне вернулось заикание:
— Подлинное письмо Ленина!
Понимая всю важность протянутого мне документа, я тут же я сделал своё решение:
— Я сегодня же еду в Петербург и найду Керенского.
Николай горячо пожал мне руку.
— Спасибо, у меня как камень с сердца свалился.
Я быстро оставил Николая и спустился вниз. В вестибюле я почти столкнулся с высоким, бородатым мужчиной, который был как близнец Михаила. Это был Григорий.
— Вы кто? — грубо спросил он меня. — Вы что здесь делаете?
Я объяснил, что я друг Михаила и пришёл к нему.
— Его здесь нет. Надеюсь, вы не встречались с другим моим братом, который полнейший мерзавец.
«Этот человек — моральный урод. Он соображает вообще, что он говорит?» — подумал я.
Ничего ему не ответив, я поспешил из этого дома, где странный сын мультимиллионера мнил себя большевиком, а был самой настоящей свиньёй в своём собственном доме.
Через несколько дней в Петербурге я прочёл в газетах, что Николай Пятаков, директор сахарных заводов и лидер либеральной партии, был убит при попытке вооружённого грабежа его дома. Группа грабителей перевернула вверх дном весь дом в поисках денег и ценностей. Но я-то знал, что это Григорий с дружками искал у брата письмо Ленина.
Через годы, я узнал, что Григорий Пятаков расстрелян НКВД. «Какое хорошее НКВД!», — подумал я.
Во все последующие вихревые годы, когда моя жизнь постоянно подвергалась опасностям гражданской войны, я уже не мог небрежно относится к предчувствиям. Когда я был в Бутырской тюрьме, и каждый момент ожидал смертной казни, у меня было предчувствие, что я останусь в живых. А когда я пустился в опаснейшую авантюру путешествия в Уфу на повторное Учредительное собрание, у меня было полнейшее предчувствие, что всё как-нибудь обойдётся.
В станице
«По приказу красного командира красноармейцы привели в Ларемную больше ста казачек. Однако беляки освободили их, а красноармейцев казачки подвергли мучительной смерти», — писала газета «Известия» от 15 января.
Колёса телеги шумно вертелись, и всё вокруг благоухало запахом свежескошенного сена. Мы сидели в телеге, изнывая от длинного пути, и тупо смотрели на дорогу. Разговор временами вспыхивал, а временами, становясь бессмысленным, затихал. Моя попутчица, юная казачка с роскошными тёмными волосами, спокойно и безучастно рассказывала о том ужасе, который произошёл в станице. Её голос был странным образом монотонен, а сама она была похожа на придорожную траву. Длинная, зелёная трава напрасно сопротивлялась серой придорожной пыли. Трава выцветала и выдыхалась, а колёса телеги монотонно скрипели и скрипели.