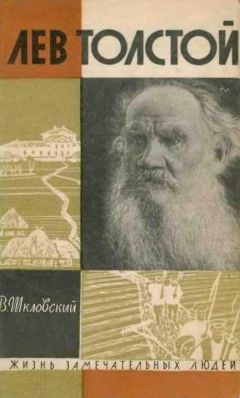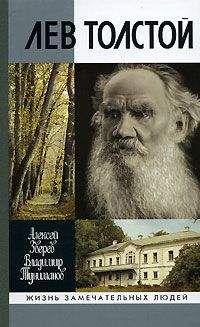Михаил Новиков - Из пережитого
Досадуя, что ничего не находил у нас более существенного, он сильно хлопал дверью, уходя из камеры. И так как наша камера была крайняя (20-я была с разным хламом, и мы туда на день выносили тюфяки), то ему дальше идти было некуда и он уходил с коридора. Данила его провожал и через некоторое время опять отпирал нашу двери и улыбался, говорил о нем:
— Сам себе покоя не знает и людям не дает! Целый день как волк по тюрьме бегает и ко всем придирается и считает себя самым первым начальником!
Фролов вертелся ужом, комедиянил, умело и вовремя подавал Даниле папиросу. Потом переходил на таинственный шепот — будто Данила был тоже членом заговорщической партии, — серьезно говорил:
— Сам посуди, Данила Никитич, — ну как такого человека не повесить после революции, когда он сам просит на себя петли. Повесим, непременно повесим, всех таких лакеев перевешаем, всю землю от них очистим, чтобы ни одного такого хама не оставалось.
Данила не выдержал своей суровости и, смеясь, сказал:
— Всех вешать, столбов не хватит, тоже ловкачи! Вы бы перевешали, да руки коротки.
Фролов делал смешные гримасы и начинал считать по пальцам:
— А сколько нам надо-то, Данила Никитич! Нам и нужно-то только на всю Тулу три-четыре десятка! К примеру, первого Тройницкого повесим, жандармского генерала Миллера, подполковника Демидова и Павлова; десятка два таких вот хамлетов; купцов с десяток; махровых дворян черносотенцев, а остальные, как овечки, все шелковые станут! Сами бока подставят, только стриги, не ленись.
— А Тихомирова как? — осклабился Данила.
— Да он и веревки-то не стоит, — хихикал Фролов, — таких вешать и взаправду столбов не хватит. Ну что такое? Ни уха ни рыла! Вот они что! — и он стучал по скамейке кулаком, — что деревяшка, то и они! Этих, Данила Никитич, мы будем обрабатывать и кататься на них верхом, куда вожжей дернешь — туда они и пойдут, насчет барахла всякого — только бери, сами и сундуки откроют.
— А Новикова? — любопытничал Данила.
Фролов опять поддергивал штаны, кривляясь, как актер, и, меняя интонацию голоса, говорил серьезно:
— Такие нам будут нужны, мы их подстегнем себе на пристяжку и заставим с мужиками разговаривать про землю и волю, и про все прочее. Они мужицкий дух хорошо знают, без них не обойдешься!
— А если они не повезут, брыкаться станут? — смеялся Тихомиров, глядя на меня. — Мужики — практики и свою выгоду лучше нас с вами понимают, их, как старого воробья, на мякине не проведешь.
— Да, вопрос мудрый, — поддерживал Данила, — ваша программа мужикам не подходит, они хозяева и за землю обеими руками цепляются, а вы им хотите нового барина посадить на шею и земли лишить.
— А мы их будем и рублем и дубьем, — хихикал Фролов. — Эта наука старая, против ней ничего не поделаешь! Кто нам пригодится — того рублем, а кто станет реветь и землю рогами ковырять, того и дубьем можно. Это средствие самое дешевое и самое верное, всех под свою бирку подгоним.
Данила сомнительно качал головой и, уходя из камеры, недовольно выговаривал:
— Ну и ловкачи — демократы!
Как старый солдат и служака, он высоко ценил труд человеческий и хорошо понимал, что даром никому и ничто не дается, что только долгим трудом и службой достигают хорошего положения, как и он, чтобы приобрести за полторы тыщи домик, должен был копить двадцать лет. А потому в душе он никак не сочувствовал Фролову и замыслам его партии.
Этим что, — думал он, — про жуликов и эксплуататоров говорят, а сами жулики из жуликов, они и вправду «твое-мое» сделают, и крестьян без земли оставят. — «Стану я, говорит, сам себе в чем отказывать», — припоминал он его философию. — И по морде, голубчик, видно, что вы жить хорошо любите, а потерпеть и достигнуть своим трудом — не желаете. Нет, друг, собственность священна и неприкосновенна, кто что приобрел — тем каждый и владеть должен, а жуликов и без вас много.
Глава 57
Арапыч
На нашем коридоре, в такой же по размеру камере, помещались портные, сапожники, кузнецы, уже судимые и отбывавшие разные сроки, так называемых арестантских рот, от трех до шести лет. Всех их было 12–13 человек, но их состав часто менялся вследствие разных переводов по их специальности и разных поступков, главное же — по приносу в тюрьму водки, газет, кое-каких самодельных ножиков и других запрещенных предметов. В их камере было пусто: ни столов, ни скамеек, и спали они вповалку на полу. Она была грязной и смрадной от табака и пыли, так как они, оставаясь в камере иногда без работы, а в особенности в праздники, все время дымили табаком и немилосердно курили и поднимали возню.
Возвращаясь с прогулки или оправки, мы иногда успевали подойти к их волчку и наблюдали за их жизнью. А дальше — больше и завели знакомство. Они делали нам ответные визиты, и тоже часто подходили к волчку и перекидывались словами.
Данила дежурил на двух коридорах, на нашем 12-м и под нами на 11-м. Он, конечно, у себя на глазах не мог допустить никакого нарушения тюремных правил, и не по злости или желанию выслужиться, как делал его сменный товарищ, а по принципу старого служаки. Но чтобы сделать нам маленькое удовольствие — он умышленно не входил следом за нами с 11-го коридора на 12-й, принимая с прогулки, а задерживался на несколько минут здесь, около своего столика, и тем самым давал нам возможность две-три минуты разговаривать в волчки с другими заключенными. А этих мастеровых по праздникам не запирал с прогулки на целые полчаса и они в свою очередь бродили по коридору и разговаривали с нами и с другими. Сидеть на корточках на полу в камере им было гораздо тяжелее, чем быть на работе, и они тяготились праздниками, а потому так и дорожили минутками знакомства с новыми людьми. Ведь в своей-то камере через какие-нибудь 2–3 недели люди так надоедают друг другу, что их и не замечаешь, да и говорить уже не о чем, что у кого было — все переговорено, а новый человек совсем другое дело, на него в тюрьме набрасываются, как на находку: а может, он скажет что-либо новое и интересное, что так или иначе имеет отношение к быту тюрьмы, к надеждам на амнистию или вообще к перемене политического курса! А население всех тюрем всегда ведь и живет этими надеждами.
Самой видной, заметной и интересной фигурой между ними был кузнец Арапыч, сидевший, как он говорил, по 17-й судимости и отбывший четыре года арестантских рот Его знала вся тюрьма, и очень многие пользовались его услугами по переносу из тюрьмы писем без цензуры к администрации, по добыванию и проносу водки, табаку, деланию из стальных обрезков ножей, по добыванию карт и т. д. Уже если чего не сделает Арапыч — других и не проси, перед ним все пасовали. И сами надзиратели ему позволяли, боясь того, что он может их подвести и выдать, а потому ему и сходило с рук. Да и физиономия его была такая добродушная, простая и подкупающая, что на него не сердился и самый строгий корпусной. У него к тому же были хорошие волосы и борода, и совсем простые детские глаза. И если бы он не был постоянно грязным от своей работы, с него можно было бы писать святого на иконах. По этой постоянной черноте ему и дали кличку Арапыч, которая как нельзя лучше подходила к нему. Работал он в кузне за тюрьмой, имел дело с частной публикой, а потому-то и имел полную возможность быть посредником между тюрьмой и волей. По тюремным коридорам он ухитрялся ходить всюду беспрепятственно и знал чуть ли не всех заключенных в лицо. Как он показывался на коридоре, до него сейчас же находилось дело у многих. И его звали по волчкам.