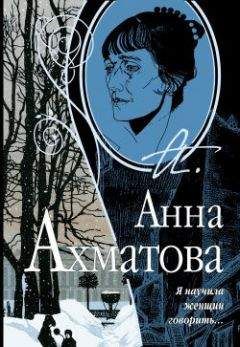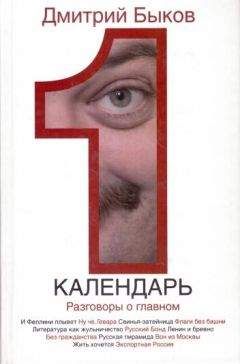Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2
Вот я в небольшой квартирке на... хоть убей, не могу разобраться в московских направленьях. Стиль убранства иной, ей совсем не идущий. Здесь хозяйкою мать, но я её так и не видел. А она меня? Не уверен, не знаю. А вот дочка в косичках, мелькнула на фотографии. Во всяком случае, ясно, что я не могу здесь остаться. Приют мы находим у её горячей поклонницы, которая даже не поднимает на меня глаз, соблюдая секрет госпожи. Так что ж – разве эти встречи тайные? Нет. Вот мы на премьере кинокомедии, которой суждено на десятилетия вперёд ублажать население целой державы в предновогодние вечера. Кругом – актёрские поцелуи, приветы звезде.
Поздно. Мы у той же поклонницы. Мне постелено на полу, но чисто, комфортно. Я уже растянулся, перебирая яркие клочья впечатлений. А она всерьёз машет гантелями, гнётся, приседает, подпрыгивает, отжимается на руках. Бежит на месте с влажным от пота полотенцем. И это – после целого дня коловращений, включая посещение бара в Доме кино.
– Ты не хочешь расслабиться, отдохнуть?
– Ты что? Моё тело – это ж мой хлеб. И не только мой.
И смотрит, как на инопланетянина, – мол, может быть, и твой.
А ведь и вправду ей надо быть в форме: днём у неё репетиция, после – спектакль. Я остаюсь в пустой квартире, у меня есть, чем заняться. Читаю сценарий легендарного «Отражения», того самого, что сделал звезду звездою. Похоже, что это – официальная версия. Читаю и не узнаю: какая-то советская лабуда; не вижу ни одного из тех образов, что впечатались в память. Впрочем, это понятно, – текст ведь написан для прохождения через целый цензурный конвейер. Нет ни великолепных стихов Супер-Мастера (но они, впрочем, были уже напечатаны раньше, – следовательно, прошли через горло Горлита), ни импровизаций с камерой, ни каких-то очень важных нюансов. Помнится вдохновенное баловство героини, заглядывающей дразняще прямо в объектив (вопреки всем условностям жанра) и, следовательно, прямо мне в душу. Тут я на крючок и попался, забыв, что таких карасей сотни тысяч. Или – вот это: кто смотрел феллиниевский «Амаркорд», тот не может отделаться от навязчивого физиогномического сходства его проходной героини, полубезумной путаны, с нашею, играющей сокровенно-сакрально-семейные роли матери, жены и невесты. Однако ну и сближенье!
Вечером гляжу из тёмного зала на покатую сцену, где кривляется с затяжным монологом трагический клоун. Если это моноспектакль, то при чём тут она? Впрочем, вот монолог прерывается вставками: лирическими диалогами с ней. Интонации – самые невозможные, но за сердце почему-то хватают. А вот почему, дуралей, провинциал: это ж те нежности, что накануне говорились тебе одному, и они летят теперь в зал, адресуясь любому и каждому – всем! Гиппопотаму, толпе.
И тут же упрёком – себе: дай ей слова, и ты сможешь услышать их из её уст. Но слов пока нет. Есть пока продолженье московского жёсткого карнавала: мы со звездой на проводах Натальи Горбаневской – тоже, в сущности, звезды диссидентской, загоревшейся жертвенно-жарко у Лобного места на Красной площади в воскресный полдень 25 августа 1968 года. Как там сказано у Всеволода Некрасова, москвича и концептуалиста, по поводу пражского самосожженца?
Ян Палах
Я не Палах
Ты не Палах
А он Палах
Он Палах
А ты не Палах
И я не Палах.
Вот Наталья-то и была наш Палах. И теперь она уезжает на веки вечные в Париж с двумя сыновьями. Провожают её поэты и диссиденты. И кинозвезда. Но вниманием всех овладевает Андрей Амальрик, автор памфлета «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Он только что из Магадана, весь в ореоле драконоборческой славы. К нему с участливыми вопросами устремляется отец Димитрий Дудко:
– Не приходилось ли терпеть притеснения от уголовного люда?
– Нет, со мной все дружили, – он чуть пришепётывает. – Я им посылки свои раздавал. Даже была поговорка у нас в Магадане: добрый, как Амальрик.
– А здоровие ваше не пострадало?
– А что здоровье? Фэя вот стала толстая.
* * *Пять лет спустя в эту шею (а именно – в горло) вонзится кинжальный осколок стекла при столкновеньи в горах на заледенелой дороге в Испании, и он сам не доживёт до предсказанного им развала империи.
ДВУХДНЕВНАЯ ВЫСТАВКА
Игорь и Леночка тоже были в столице. Сговорились мы вместе провести вечер в мастерской у Бачурина. Не поздно, потому что пора уезжать из Москвы и надо успеть к поездам. Лучше вернёмся и встретим в Белокаменной следующий, какой он там будет по счёту – 1976-й, что ли, год! Звезда обещает билеты на бал в неких высоких сферах.
Я нервничаю, мы с ней опаздываем к условленному часу, но она не спешит, устраивает свои дела и делишки хозяйственные – в собственном стиле, на звёздном и элитарном уровне. В магазине электротоваров надо сослаться на знакомого космонавта, чтоб доставили холодильник, а в мебельном – на хоккеиста из сборной страны. Я, понятное дело, скисаю от таких конкурентов, но хоккеиста всё ж одобряю за... интеллигентность на льду. От удивления он где-то за сценой проваливается под лёд. А космонавт сам собою возносится за пределы Вселенной.
Наконец поднимаемся на какой-то чердак и звоним.
– Это ли знаменитая ленинградская точность? – ярится Евгений Бачурин.
И – матерком, матерком...
– Нет, это московское гостеприимство! Ты чего расшумелся? Гляди, кто тебя посещением удостоил. Королева, звезда!
За столом – притихшие от такой перебранки Тюльпановы. Самолюбивый Бачурин опоминается, все мы снова друзья и артисты, прямо как в опере «Богема» Джакомо Пуччини. А сам он – поэт, и певец, и художник в одном лице. Вот запевает он под гитару:
Огюст, Орест и Оноре
сидели как-то в кабаре... —
Огюст – это Ренуар; Оноре, естественно, – де Бальзак, а Орест – лицо вымышленное, – поясняет певец.
Это забавно, иронично, смешно. Все трое жалуются на отсутствие свободы для искусств. «Как и не мы».
Дерева вы мои, дерева...
Почти фольклорно и драматически осмысленно. Слова по-народному стёрты, обкатаны, но при этом умны и уместны. Голос резок, он его смягчает, где надо, и вместе со струнными переборами образы отзываются в мыслях и чувствах.
Сизый лети голубок,
в небо лети голубое.
Если бы крылья мне выдумал Бог,
я бы летел за тобою.
Гремучей славы, как у других бардов, не говоря уж об эстрадниках, у Бачурина не получилось. Наверное, он на то не решался. Я просил его тексты, хотел написать о нём в «Континенте» для пущей растравленности, но он не дал. Переосторожничал. Пластинку зато выпустил. Но так, может быть, и лучше: кто понимает, тот ценит. Его знали и пели. Вариант: знают и поют. Хорошенькая актрисуля Марина Старых, игравшая в ТЮЗе козу, которую даже доили на сцене, пела Бачурина совсем по-деревенски: «Дярева вы мои, дярева...»