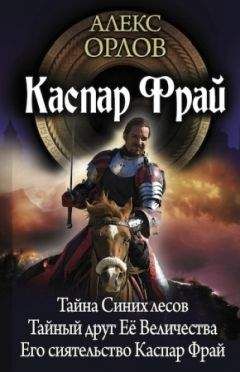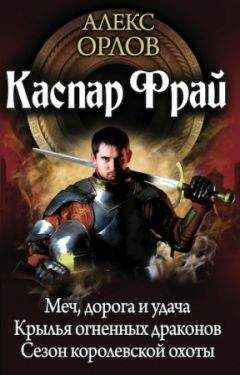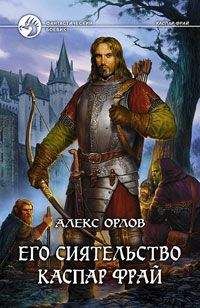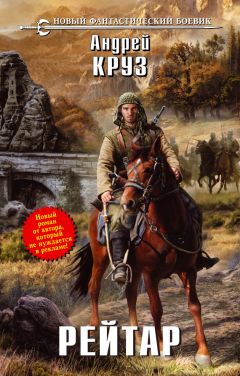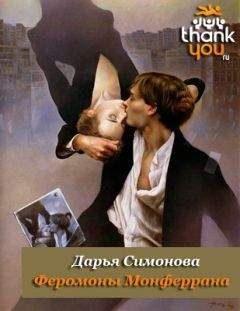Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
– Ну что, – спрашивает лекарь, после раздумья моего, – вспомнила? Домекнулась, про кого я тебе слово сказал?
– Домекнулась, – говорю.
– Ну, так поняла теперь, что мы с Васильем всякую для вас помощь оказать можем?
– Поняла.
– Ну, так беги же проворнее в сундук за казной.
Побежала я это за казной, как он приказывал, и выношу ему из спальни четвертную, – новенькая такая бумажка, так и шуршит в руке. Поглядел он сперва на бумажку, потом на меня, улыбаючись, взглянул исподлобья и говорит коту: «Посмотри-ка, Василий, чем нас за наши благодеяния благодарят». Говорит так-то, а сам бумажкой-то коту ноздри щекочет. Батюшки мои! Как этот котище окрысился в это время! Сроду я такой злющей гадины не привидывала. Как зафыркает, как зафыркает, шерсть на нем как на свинье встала, а сам так-то ли сурьезно головой на меня рыжей повел…
– Что же, – спрашиваю я, – мало, что ли?
– Да кажись, что шубы-то на такие деньги-то не сошьешь!.. – Это мне лекарь-то в ответ сказал, а сам все смеется, так что смех этот меня за один раз и в озноб, и в жар бросил.
Побежала я опять за казной, – еще принесла четвертную и ему подала. Только тут он ужасти как разгневался: обе бумажки на пол он шваркнул и за шапку, а сам все шепчет: «Им на целую жисть благодеяние делаешь, а они тебе все равно как нищему…»
Подняла я с пола обе бумажки и сейчас же летом достала сто серебра и вручила ему. Повеселел и сказал: «Вижу, говорит, твое усердие». Подал он мне тут синенький пузыречек с какой-то желтой водой и стал совет давать: «Каждую пятницу, говорит, давай ты мужу по семи рюмок очищенной, в каждую рюмку наливай по семи капель этой воды и делай это семь пятниц. Ежели еще не очень туда запущен ему червь – в желудок-то, так, может, он к вечеру первой пятницы выйдет. Это, говорит, бывает часто. А ежели он крепко засел там, так последняя пятница окажет себя беспременно». Простился он тут со мной и ушел, – кот за ним побежал. Я еще ему говядины такой-то большой кусок дала.
Стала я мужа этим самым снадобьем потчевать. Тошнит его, но малость. Думаю: обманул старый шут. Только, гляжу, на четвертую пятницу не вытерпел Онисим Григорьич, закричал: «Бежите, говорит, за батюшкой-попом, – душа у меня с телом зачинает расставаться». Прибежала я к нему, а червь-то и ползет по полу, так-то скоро ползет, зеленый весь, с усами, – полз, полз так-то, да в щель под пол и юркнул. Слава богу, думаю, вышло. И прошло после этого случая, так надо полагать, месяца два, – все крепился старик, не пил. Благодарила я тут бога много, что сто рублей даром не пропали. Только что же? Сижу я так-то однажды под окошком и вижу видимо-невидимо подъехало к нашему крыльцу колясок, линеек, дрожек, а впереди с каким-то офицером в карете сам приехал. И ввалила вся эта компания в покои, у каждого в руках кулек с винами, и загайгакала. Это он, милая ты моя Татьянушка, с одной свадьбы купеческой, на какую стол подрядился готовить, всех до одного человека – приказных, молодых офицеров, – они ведь любят на даровщинку-то попьянствовать – к себе притащил. И пошла тут такая пыль, такое горлодерство – беда. Я и говорю ему:
– Опомнись, ведь у тебя дочери невесты. Гони ты их вон. – Молчит, голову свесил.
Я к приказным. Говорю им: так и так, господа! Как вам будет угодно, а вы ступайте отсюда, не соблазняйте старика, потому я его вылечила. Большие, сказываю им, деньги заплатила, чтоб из него червя запойного выгнали, и сама я своими глазами видела, как он из него вышел и под пол уполз. Дайте же, пожалуйста, – все пристаю к ним, – спокой старику.
Смеются приказные, глядя на мои слезы.
– Тут мы, – говорят, – хозяйка, ни в чем не причинны, потому рази другой червь в нем завесться не мог? А вино, говорят, мы свое пьем. Значит, ты бы лучше нам дочерей показала, потому, слышали мы, у вас денег много, так может и женился бы кто…
Топанье и раздевание в передней прервали в этом месте разговорившуюся Марфу Петровну. В гостиную вошел сам, веселый такой, радостный.
– Что? – спросил он, шутливо относясь к Марфе Петровне, – небось, все про мужа судачила? Эка старая! До сих пор не отвыкла еще мужа всякому человеку расхваливать…
– Ба! Сестрица милая! – вдруг воскликнул Столешников, приметив наконец гостью. – Какими судьбами ты к нам залетела? Ну-ка, давай, милая, поцелуемся.
– Братец-голубчик! – ответила на это братнино приветствие стоном и слезами Татьяна. – А ведь мы опять погорели!..
– Опять?.. – переспросил с ласковой и разгадавшей всю суть дела улыбкой Столешников. – Ну, авось, Бог милостив! Давай-ка, старуха, обедать.
III
– Ну, что, сестра? – спрашивал Онисим Григорьич Татьяну в то время, когда Марфа Петровна, вообще с кухаркой, накрывала на стол, – как там у нас в деревне-то? Все ли она тем же концом с краю стоит – а? Али иным повернулась? Ха-ха-ха-ха! – басовито и покровительственно посмеивался разбогатевший брат над бедной, оставшейся, по фамильному выражению, в крестьянстве сестрой.
– Да теперича, братец родимый, ежели от вашей милости никакого нам бедным блага не выйдет, так она, может, до коих пор без конца совсем простоит – деревня-то, потому вашему здоровью известно небось, что двор родительский с краю стоял, – отшучивалась в свою очередь Татьяна, не давая в то же время брату забыть про ее горькую нужду.
– Ну-ну, Господь с тобой! На вот возьми, пристраивай с мужем конец к деревне! – добродушно отозвался Онисим Григорьич, причем он вынул из пузатого бумажника крупную ассигнацию и подал Татьяне – Как пойдешь домой, еще на гостинцы ребятишкам дам, а эту зашей в рубаху, чтобы, оборони бог, не выронить как-нибудь.
Видя такую добродетель, ярославка с громким воплем и обильными слезами бросилась в ноги сначала братцу, потом сестрице, а наконец, зауряд{275}, и милым племяннушкам.
– Кормилицы вы наши, благодетели! – вопила она, тщетно желая отдавить кому-нибудь из благодетелей хоть одну ножку своим низкопоклонным лбом. Онисим Григорьич ни под каким видом не допускал ее осуществить это намерение.
– Сестра! – говорил он, поднимая ее с пола, – не греши: не человекам подобает земное поклонение, а Господу одному.
Подали обед, вследствие чего жалобная сцена прекратилась.
– А что, старушка Божья, – отнесся Онисим Григорьич к жене, сидя уже за столом, – ты бы нам, для ради свиданья с сестрой, водочки поставила безделицу, винца бы какого тоже малость прихватила, потому и самой на радостях не мешает.
– Ох, Онисим Григорьич! – простонала Марфа Петровна, – боюсь я, как бы ты не того…
– Оставь пустое разговаривать-то! – с прежним благодушием сказал старик. – Что мне с одной али с двух рюмок поделается? Бог милостив… Вот, сестрица, не покидает меня несчастье мое, – слышала небось какое? Знаешь? Что ты будешь делать! И к лекарям разным ходил, и к батюшке Врачу Небесному за его великой помощью прибегал, – не снимает Господь креста… Заслужили, должно быть, ну и терпи…