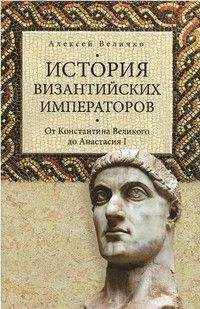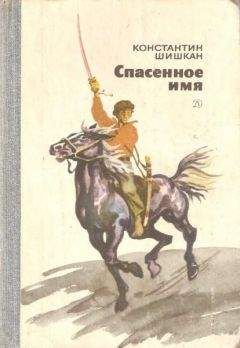Олег Чухонцев - В сторону Слуцкого. Восемь подаренных книг
Стоп! — даже это языковое клише — обыграно рифмой:
«Томисты, гегельянцы, платоники и т. д., а рядом — преторианцы с наганами и тэтэ».
Игровой и образный способ высказывания был его натурой.
«Познакомьтесь, — говорит он мне на коктебельской набережной, представляя миловидной женщине, — Наталья Николаевна Тарасенкова, пишет рассказы, которые начинаются так: „Вечерело…“» И хитро улыбается, а мы смеемся.
Или — возвращаемся в самолете из Симферополя в Москву, я спрашиваю, что он думает о стихотворной книжке Татьяны Глушковой, которой он благоволил. Б.А. откидывается на спинку кресла, несколько секунд думает и: «Силки расставила правильно. Соболь не попался».
Кстати, я пересказал это bon mot Слуцкого Анатолию Жигулину, он восхитился, и каково же было мое удивление, когда спустя какое-то время я прочел беседу с ним в «Вопросах лит-ры», где он повторил этот образ Слуцкого как свой. «Нехорошо, Толя, заниматься плагиатом», — попенял я ему, когда мы встретились, а он долго молчал, потом вздохнул: «Наверно, забыл. А ведь хорошо сказано, а?» «Потому и не забыл, — говорю, — пить надо меньше». Чистая была душа!
Начало и середину семидесятых я вспоминаю как самое тяжелое свое время — время испытаний. Трудно было получить работу (переводческую), за несколько месяцев я потерял родителей, семья треснула, книга зависла. Единственное счастье этих лет — Коктебель, который открыло мне опять же семейство Слуцких, Б.А. и Таня, Татьяна Дашевская, о которой пора наконец-то сказать.
Хотя мы познакомились шапочно давно, настоящее знакомство и теплые отношения сложились именно там, в Коктебеле. Они меня и подбили на эту поездку, видя как я издергался и надорвался на бесконечных проводах близких, мы прилетели одним рейсом в Симферополь в апреле 1973-го, одной машиной добрались до поселка Планерское (так официально именовался тогда Коктебель, чье название разрешили оставить только Дому творчества), Б.А. выхлопотал у директора хорошую комнату для меня (тогда комнаты распределялись на месте, а Слуцкого, хотя он не был никаким секретарем, все уважали), и Таня сразу поволокла меня на набережную и стала показывать местность как экскурсовод: «Это дом Волошина, вон там горная гряда, называется Хамелеон, потому что в течение дня меняет цвет от освещения», — она показывала рукой, я глядел на окрестности, а она следила за выражением моего лица, ожидая восхищения. Я обалдело озирался и щурился от света, мало что видя, а Таня продолжала воображаемую экскурсию. Было в ней что-то легкое и естественное, как в бунинской Русе, и я понял: Слуцкому очень повезло с ней. Красивая и деликатная, она была не то чтобы застенчива, но закрыта точно, и никогда не говорила о себе. Даже ее ближайшие подруги (Галя Евтушенко и Таня Винокурова (Рыбакова) мало что могли о ней рассказать, кроме того, что знали все. Она носила широкую плетеную шляпку, старалась быть в тени и не только фигурально: если в парке — искала скамейку попрохладнее, на пляже — только под тентом. На набережную выходила ненадолго. Была во всем ее облике и поведении какая-то тайна (слово, невозможное в устах Слуцкого), ну, может быть, область непосягаемого. Я ничего не знал о ее предыдущем коротком браке, например, да эта тема никогда и не возникала. Им вдвоем было хорошо, и я долго ни о чем не догадывался. Когда я звал ее на пляж, Б.А. строго говорил: «Ей нельзя». Он и сам не был заядлым купальщиком, обычно только окунался и быстро выходил из воды. Ну, нельзя так нельзя. Зато гулять она любила, нет, не в горы, а вдоль моря, обычно вечером, когда зной спадал, и весь срок пребывания оставалась незагорелой и белокожей, как в день приезда. Вечером они рано уходили к себе, и свет горел иногда допоздна.
После полдника мы совершали с Б.А. общие прогулки. Гулять с ним было одно удовольствие, хотя я любил быструю ходьбу, а он не гулял, а прогуливался, время от времени останавливаясь и, полуобернувшись и вскинув голову, что-нибудь изрекал. Его крепкая еврейская голова и тут требовала игры и работы:
«Как вы думаете, кого больше в мировой поэзии: певцов моря или поэтов гор?» — спрашивает, смотря на залив. Ясное дело, романтика, Гомер, тугие паруса, корсары и прочее. «Конечно, певцов моря», — отвечаю. И начинаем считать. И, к моему удивлению, певцы гор побеждают романтиков моря с разгромным счетом.
Не знаю, как Таня, но Б.А. был жаворонком, вставал рано, часов в пять-шесть, еще до восхода солнца, и уходил к морю, обычно в Лягушачью бухту, возвращался до завтрака с готовым, как правило, стихотворением или свежими строфами, диктовал их Тане или записывал вышаганное в тетрадь, после чего они шли на завтрак. Это все рассказала мне сама Таня, а Б.А. подтвердил, что когда-то, борясь с контузией и головными болями, он принимал каждый вечер кучу снотворных (раскрыв ладонь показал: этого хватило бы любому отправиться на тот свет), а потом, по его словам, выбросил все таблетки и выработал такой режим: лучше рано вставать, чем всю ночь мучиться бессонницей.
Если прочитать под этим углом зрения стихи Слуцкого, бросается в глаза их мышечная природа: они не написаны, а записаны. Именно вышаганы: ритм ходьбы, ритм сердцебиения, энергия отдельной строки. Так писал, как известно, Маяковский, менее известно — Блок. Из младших современников — Вознесенский. Так что мое предыдущее заявление о графоманстве Слуцкого как минимум нуждается в уточнении. Графоман пишет по вдохновению, не отрывая пера от бумаги, а Слуцкий не писал, а вырубал слова из (воздушной) породы. Это изнурительный, порой безблагодатный труд, хотя, случалось, его и «вело», как всякого истинного поэта. Это же держало в форме. Инвалидный опыт и семейная ситуация не давали расслабиться. «Кто придет неразрушенным к старости, выиграет», — сказал он однажды посреди разговора, и я понял, что он постоянно об этом думает.
Иногда срывался и срочно вылетал в Москву — на моей памяти трижды — хоронить друзей. (Помню поспешный его отъезд — проводить в последний путь Любовь Михайловну Эренбург.) Через двое суток возвращался. Для него это была важнейшая обязанность, и он исполнял ее неукоснительно.
Вот я смотрю на выцветшую любительскую фотографию: скамейка на набережной, на ней четверо: Александр Абрамович Аникст, шекспировед, Виталий Лазаревич Гинзбург, физик, Слуцкий и я с краю. Троих уже нет на свете. А я еще живу, вспоминаю ту весну, цветущий тамариск, детский визг купающихся, шум волн и скрежет береговой гальки…
Тогда, весной 74-го, я узнал, что Таня давно и неизлечимо больна (рак лимфоузлов, кажется), что через Лилю Брик Б. А. удалось вывезти ее в Париж на лечение, что болезнь удалось приостановить, но она должна быть крайне осторожна: избегать солнечных лучей, соблюдать режим, вести себя осмотрительно. И я многое понял про них. Все эти годы они жили с ощущением отсроченной катастрофы, ожидая худшего и встречая каждый день как подарок. Отсюда их и замкнутость, и жадность к людям.
![Семён Данилюк - Константинов крест [сборник]](/uploads/posts/books/50072/50072.jpg)