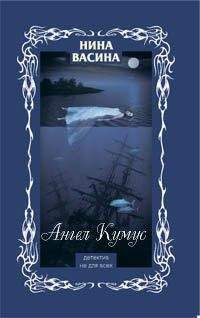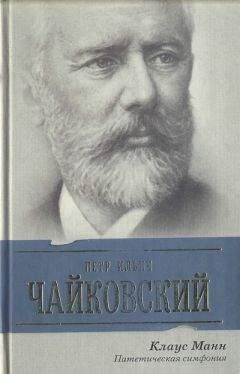Иосиф Кунин - Петр Ильич Чайковский
Дело петрашевцев открыло новую печальную главу в жизни Училища правоведения — эпоху террора, по определению историка училища Г. Сюзора. 22 декабря на Семеновском плацу в Петербурге вместе с другими петрашевцами молодой правовед В. А. Головинский поднялся на обтянутый черной материей эшафот, чтобы выслушать приговор. За открытое признание, что освобождение крестьян есть важнейший вопрос в России и что для освобождения все средства хороши, он был приговорен к смертной казни через расстрел, а по смягчении приговора — к отдаче в солдаты в Оренбургский линейный батальон сроком на 25 лет.
В те же недели, 7 декабря 1849 года, директором Училища правоведения был назначен бывший рижский полицеймейстер, генерал-майор А. П. Языков.
«Помню, как вчера, его появление к нам в приготовительные классы, — вспоминал бывший двумя классами старше Чайковского князь В. П. Мещерский. — Он не вошел, а влетел, как ураган, поздоровался, а затем с глазами навыкате для придания себе вида строгости стал обходить наши классные столы… Я стоял с руками, положенными на стол. Он подошел ко мне, ударил по обеим рукам. «Как сметь так стоять? — рявкнул он. — Руки по швам!» Другому то же самое сделал, тот расплакался, а затем, сказавши: «Смотрите у меня, вести себя хорошо, а не то расправа будет короткая!» — вылетел из класса… Это было первое впечатление нового режима…»
«Он вступил в должность довольно оригинально, — рассказывает другой питомец училища, И. А. Тютчев. — Дежурный воспитатель построил нас в зале, чтобы идти к обеду в столовую; едва мы успели построиться, как перед нами явился генерал среднего роста, не очень молодой, в мундире по армейской пехоте состоящего. Генерал объявил: «Я ваш директор, государь приказал вас забрать в руки; мы знаем, батенька, эти штучки!», повернулся на одной ножке, прихлопнул шпорой и полетел дальше. Воспитанники остались в недоумении…»
Разрушительным идеям петрашевцев рижский полицеймейстер умел противопоставить только бешеный окрик, казарменную муштру и розги. Прежние воспитатели, за редкими исключениями, были заменены офицерами. Школьный день начинался по барабану. После завтрака унтера гвардейских полков, «профессора шагистики», обучали будущих судейских чиновников и сенаторов маршировке.
«С введением строгого режима, — отмечает Г. Сюзор, — изменяется отношение начальства к искусству. Уроки музыки приобретают характер казенный, а отсутствие концертов лишает их притягательной силы». Учебное заведение, бывшее в годы пребывания там Серова и Стасова одним из очагов русской музыкальной культуры, приходит, как раз ко времени поступления туда Чайковского, в состояние полного упадка.
Ничего этого не знала Александра Андреевна Чайковская, определяя Петю в Училище правоведения. Следуя, вероятно, совету Платона Алексеевича Вакара, бывшего питомца училища и отличного музыканта[7], она имела основание думать, что выбрала для своего сына учебное заведение, наиболее отвечающее мягкому характеру мальчика и его выдающимся музыкальным способностям. Действительность немедленно опрокинула эти предположения.
Нравы закрытого военно-учебного заведения тех лет, с бездушным формализмом, с грубостью, чуть прикрытой внешним лоском, с постоянным и каждодневным, возведенным в педагогический принцип глумлением над человеческим достоинством ученика, стали с приходом Языкова нравами Училища правоведения. Первой обязанностью было объявлено безусловное, нерассуждающее повиновение. Более не должно было быть ни своих мыслей, ни своих понятий о долге, ни своего, отличного от других способа веселиться. Все полагалось иметь готовое, казенного образца. «Не шевелиться, хоть и мечтать, не показывать виду, что думаешь, не показывать виду, что не боишься, показывать, напротив, что боишься…» — так определял Глеб Успенский систему, оставившую глубокий след в сознании целых поколений.
«Мы скоро поняли и почувствовали, что становились номерами, под которыми справляли свою функцию воспитанников», — пишет Мещерский, выразительно называющий свои годы учения «семилетним заключением в Училище правоведения при Языкове».
Обучение наукам, никогда не стоявшее высоко в Училище правоведения, пало совершенно. Либерал Арсеньев и реакционер Мещерский единодушны в оценке этого факта. В младших классах, пишет К. К. Арсеньев, «не было при мне положительно ни одного хорошего учителя. Усыпительно преподавалась география и русский язык, история у Налетова разохочивала заниматься ею, математика и латынь проходились так, что приобретенное тотчас же забывалось. Французскому и немецкому не знавшему их научиться было нельзя, а знавшие шли назад». Одним из наиболее серьезных и дельных считался в училище преподаватель истории профессор И. П. Шульгин. «Как жалки те бедняжки, которые принуждены будут учиться по книге г. И. Шульгина! — восклицал Добролюбов, рецензируя его «Руководство Всеобщей истории». — Какое извращение здравого смысла, какая узость и пошлость воззрений…»
Специальные, юридические предметы, изучавшиеся на последних трех курсах, усваивались еще более механически, еще более формально, чем общеобразовательные. Их наскоро заучивали к экзаменам, чтобы тут же и позабыть. Самые экзамены никакой серьезной проверки знаний не давали. «В мое время, — с отвращением писал Чайковский в 1883 году, — экзамены в Училище правоведения были даже не лотерея, где бы все зависело от удачно вынутого номера, а просто комедия. Все было основано на узаконившихся традициях разнообразного мошенничества, в которых очень часто принимали участие и сами преподаватели, входившие в стачку с учениками».
Картина безотрадная. А ведь в этой обстановке складывались характеры, отвердевали взгляды на жизнь, усваивались нравственные понятия! «Ничего на свете, — справедливо и чутко говорит Герцен, — не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес». В Училище правоведения после 1849 года было сделано все возможное, чтобы убить этот интерес. И результаты не замедлили. Над стоячим болотом поднялся туман гнилых испарений. Когда-то, в 1838 году, правоведы своими средствами ставили «Ревизора». Теперь для воспитанников старших классов главной притягательной силой оказался великосветский Михайловский театр, где играла французская труппа. Порою пятьдесят два места верхнего яруса сплошь заполнялись подростками и юношами в зеленых правоведских мундирах, притаив дыхание следившими за ходом пустейшей комедии. Театр для большинства правоведов был не только развлечением, но и настоящей школой легкомысленного, фривольного отношения к жизни и любви. К ужасам николаевского режима присоединялось культивирование разврата, загрязнявшего юные души. Начальство видело в нем отличное средство предохранения молодежи от «завиральных идей». Сквозь пальцы смотрели люди, отвечавшие за воспитание будущих офицеров, инженеров, юристов, на самые вопиющие проявления моральной распущенности.