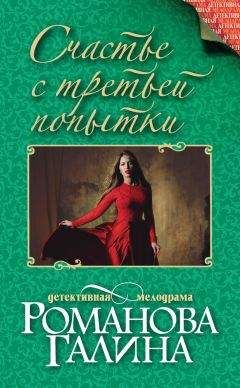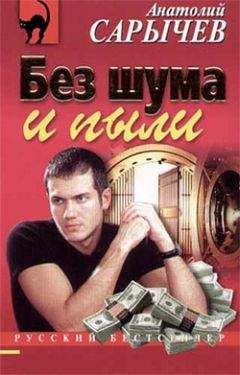Вениамин Каверин - Литератор
Письма[33]
(Горький — Каверину, Каверин — Горькому)
Горький — Каверину
Петроград. Весна 1921 г.[34]
Хотя неясность рассказа[35] и нарочита, но в нем чувствуется нечто недоговоренное по существу темы. И кажется, что это уже неясность — невольная. Иными словами; интересная и довольно своеобразная тема не исчерпана автором, боюсь, что со временем — он сам пожалеет: преждевременно, не продумав до конца, использовал хорошую мысль.
Написано же довольно искусно, почти талантливо, однако — язык записок монаховых не везде точен, выдержан.
В обоих рассказах — один и тот же недостаток: слишком силен запах литературы, мало дано от непосредственного впечатления, от жизни. Авторы[36] смотрят на действительно сущее как бы сквозь бинокль книги, литературной теории.
При этом иногда бинокль употребляют с того конца, который уменьшает предметы. Размеры рассказа здесь не играют никакой роли: драгоценные камни вообще не велики. И — нередко — большой хуже малого, ибо небрежнее отшлифован.
Я бы рекомендовал авторам — больше смелости, самонадеянности, самоуверенности. Теории — это весьма интересно, иной раз даже полезно, реже — необходимо, но самое-то важное для юности — учиться из опыта, не верить, исследовать, проверять и затем уже верить! Если хочется[37].
А. П.Каверин — Горькому
24/IX 1922. Петербург
Дорогой и многоуважаемый Алексей Максимович!
Вы несколько раз упоминали обо мне в письмах к Серапионам[38], и я решил написать вам, чтобы поблагодарить за память. Спасибо вам сердечное за то, что помните меня, и за то, что в меня верите. Это меня очень поддерживает и ободряет, тем более что за последний год мне часто говорят, что мои рассказы оторваны от жизни, надуманы и т. д. Сейчас в фаворе быт и русская действительность, этакий тугой литературный диалект. И как будто мало в современной жизни всякой фантастики и даже не авантюрной, а именно романтической. А написать — так никто не поверит. И пишу, и не верят.
Наконец, можно же писать и не о России даже, но так, чтобы рассказы революционной формой были в соответствии с русской действительностью. Вы простите меня, Алексей Максимович, за то, что я затрудняю вас своим письмом. Я очень хочу прислать вам свои рукописи. За последний год, со времени вашего отъезда, я написал 7–8 рассказов. Из них 3 — никуда не годятся, а 4 вышли ничего себе. Если бы я знал, как их вам послать, я бы послал непременно.
Их заглавия: «Пурпурный палимпсест», «Щиты и свечи», «Страна геометриков», «Повесть о столяре и рубанке»[39]. Последние два — русские и о России. Это не потому, что я сдал мои иностранные позиции (можно всю жизнь писать о той же Германии), а потому, что интересно на русском материале провести какую-нибудь небывальщину.
Потом в Берлине в «Алконосте» у С. М. Алянского[40] лежит моя повесть «Пятый странник»[41]. Мне очень хочется, чтобы вы прочли все это, потому что я работал добросовестно и кое-что удалось. А печататься здесь мне совершенно невозможно, и ни одного рассказа, кроме того, что был в Альманахе[42], — я не напечатал еще.
Дорогой Алексей Максимович! Напишите Серапионам, как вы живете, как здоровы и о чем пишете.
В. Б.[43] пишет нам, что очень тоскует. Его жена и сестра с дочкой живы и здоровы. Друзья их и его не забывают и любят по-прежнему. Серапионы также все здоровы, у Федина родилась дочка. Все пишут. Миша Слонимский выпустил книгу «6-й стрелковый». Лунц написал очень интересную трагедию «Бертран де Борн»[44]. Зощенко написал «Записки офицера»[45], словом, все работают на совесть. Должно быть, вам обо всем этом пишут другие. На днях я пошлю вам по почте, на риск, рукопись. Почти все рукописи, посланные по почте, пропадают. Может быть, на этот раз дойдет.
Всего, всего доброго.
В. КаверинМой адрес: Птгр. Греческий проспект, 15, кв. 18. Тынянову[46]. Чуть не забыл. Послал Эренбургу одну статью. У нас было торжественное заседание памяти Гофмана, и я приготовил речь о нем[47]. Эту речь я и послал Эренбургу.
Ну всего доброго. Будьте здоровы.
Ваш В. КаверинГорький — Каверину
Я наверное получу ваши рукописи, если вы пошлете их в Москву, Чистые пруды, Машков переулок, д. 1, кв. 16, Ек. Пав. Пешковой для Ивана Павловича Ладыжникова[48], который в конце месяца поедет в Германию. Здесь все рукописи, достойные — по вашей оценке — опубликования, могут быть довольно скоро изданы — для России и заграницы — «Книгой», для Госиздата. Условия издания будут приличные, часть гонорара вам переведут немедля. Вероятно, можно будет все или некоторые рассказы предварительно напечатать в разных здешних изданиях.
Целая книга сразу покажет читателю оригинальность вашего таланта, своеобразие и свежесть фантазии вашей. Читатель поймет, что пред ним не каприз, не случайная игра воображения, а — нечто исключительное и — ценное. Уверен, что не ошибаюсь.
Однако вы должны знать, что вас не сразу поймут и оценят. Вам нужно вооружиться терпением в пути, на который вас обрекает характер вашего таланта. Его надо очень любить, очень беречь, — это цветок оригинальной красоты, формы, я склонен думать, что впервые на почве литературы русской распускается столь странное и затейливое растение. Для меня, старого читателя, уже и теперь ваши рассказы выше подобных у Гоголя[49]. Не люблю сравнений, но, думая о вас, всегда невольно вспоминаю Гофмана и — так хочется, чтобы вы встали выше его! Я много мог бы сказать вам комплиментов, все они были бы искренни, и я не считаю их преждевременными. Но — пока довольно, и — о другом.
Позвольте посоветовать вам вот что: держитесь крепче с друзьями: Лунцем, Зощенко, Слонимским да и всеми другими, кого не оглушает, не ослепляет «базар житейской суеты»[50]. Не обращайте внимания на обезьян, вроде Пильняка, и спекулянтов красивым, но пустым словом. Вы — юноша, по мере расширения и углубления вашего опыта ваша фантазия должна тоже шириться и углубляться, она может заставить вас написать вещи глубочайшего значения. Это вы должны помнить, стремясь к этому — берегите и любите ваш талант.
Очень крепко жму вашу руку, милый друг.