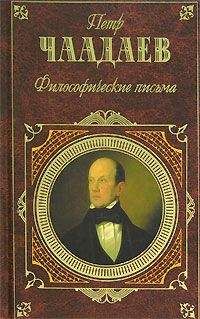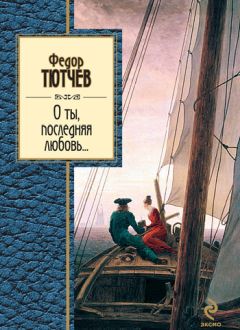Ольга Симонова-Партан - “Ты права, Филумена!” Об истинных вахтанговцах
Матерью Людмилы Максаковой была оперная дива — солистка Большого театра Мария Петровна Максакова, а слухи о том, кто же все-таки был ее отец, интриговали театральную Москву десятилетиями. Чего только не придумывали — и Сталин, и Берия. Сплетни о романах Людмилы Максаковой со знаменитостями, о ее театральных кознях и о ее фантастических туалетах постоянно циркулировали из уст в уста по богемной Москве, незнакомой еще с глянцевыми журналами, публикующими рассказы о жизни богачей и знаменитостей, и будоражили воображение. В те советские времена Максакова была предтечей сегодняшнего постсоветского гламура. Умная и коварная женщина, она точно чувствовала еще тогда, в далекие семидесятые, что значит для нищенского социалистического сознания невиданная роскошь. Ведь тогда еще не было олигархов с их надменно-кислыми девицами, с на удивление клонированными лицами, не было всей этой постсоветской денежной вакханалии. Тогда была только одна настоящая московская львица — Людмила Максакова, женщина опасная и, надо отдать ей должное, твердо знавшая, что ей нужно. Предполагаю, что нужна ей была больше всего на свете вахтанговская сцена. Хотелось ей на этой сцене безраздельно царить. И она царила, но не безраздельно, посягать на корифейство Юлии Борисовой было не так-то просто.
Студентки театральных вузов и начинающие артистки головы ломали над тем, как хоть чем-то походить на Максакову. Она была у всех на устах, и завидовали ей массовой, черной завистью. Помню, как в 1979 году мы студентками бегали смотреть на нее в комедии Эдуардо де Филиппо “Великая Магия” исключительно из-за того, что все вокруг судачили о каких-то немыслимых аутентичных бриллиантах, заграничных париках и туалетах. Вот уж воистину для всех для нас это была в то время “великая магия”. Однако мало у кого на плечах была такая, как у Максаковой, голова, и мало кто обладал таким жизненным азартом и страстью побеждать и обходить на поворотах всех, на своих роскошных, шуршащих, как змеи, дорогими шинами спортивных автомобилях. Современные львицы постсоветской гламурной хроники по сравнению с ней всего лишь жалко мяукающие котята. Не те, дамы и господа, выражаясь терминологией Станиславского, “предлагаемые обстоятельства”!
Людмила Васильевна Максакова всегда была виртуозом театральной интриги. Это важнейшее качество для театрального успеха — мало кому дано плести интригу “по-максаковски”: так умно, что часто и догадаться мудрено, откуда вьется ниточка, столь она витиевато переплетена и запутана. Дворцового калибра виртуозность плетения интриг во многом способствовала ее царственному статусу на вахтанговкой сцене и во многом повлияла на историю и репертуарную политику этого театра за последние десятилетия. Именно постановками с Максаковой обязан театр имени Вахтангова своими изменами вахтанговской эстетике — мрачными и безысходными спектаклями типа “Анны Карениной” в постановке Романа Виктюка и истинно вахтанговскими триумфами: камерным спектаклем “Без вины виноватые” в постановке Петра Фоменко — гимном уходящей вахтанговской культуре. Острохарактерные роли, типы интриганки Каринкиной в пьесе Островского “Без вины виноватые”, всегда удавались Людмиле Максаковой гораздо лучше, чем трагически-обреченные, страстно любящие героини.
Мама всегда прослеживала в вахтанговских хитросплетениях максаковскую нить:
— Коварнее и опаснее человека, чем Максакова, не знаю, — всегда говорила она нашим театральным гостям, неизменно обсуждающим максаковские козни и триумфы. Я со своими поисками истины так и сижу и вяжу на машине “Veritas”, ниточки переплетаю, а Люда царит на вахтанговской сцене. Театр все равно люблю свято. — И всегда добавляла голосом моего деда в роли старого артиста Синичкина из старинного русского водевиля “Лев Гурыч Синичкин”: “Я артист, и умру артистом на сцене, или у себя дома, ничего не делая”. В самоиронии маме отказать было нельзя.
Странное, часто повторяющееся и пугающее слово “Максачиха” было неотделимо от звукового фона моего детства, так же, как музицирование отца и пение мамы. Отчетливо вспоминается одно из ранних детских впечатлений. Мне лет пять-шесть, и мы с мамой живем в совсем незнакомой квартире. Квартира отдельная, но в ней почему-то все чужое. Мама, очевидно, предприняла одно из своих исчезновений — переездов, чтобы скрыться от отца и расстаться с ним (в который раз) навсегда. У нас в гостях кто-то из маминых близких театральных подруг. Я с удовольствием наворачиваю оладушки с черной смородиной, протертой с сахаром (традиционная еда детства, когда у мамы заканчивались деньги, а с отцом она была в ссоре), и подслушиваю леденящий мою детскую душу шепот взрослых. Говорят они опять о какой-то “Максачихе”, которая “всегда идет по трупам”, и о том, что она “опять кого-то сожрала”. Людка превращается в людоедку — оладушка с вареньем застревает у меня в горле, и мне представляется страшная атаманша, с бородавкой на носу и кинжалом в руке, которая разгуливает по трупам ею же прирезанных жертв, пережевывая остатки одной из них и выплевывая косточки. От ужаса меня начинает тошнить.
Когда вскоре помирившиеся родители приводят меня в театр Вахтангова на мою первую в жизни “Принцессу Турандот”, и я, наряженная, с желтым капроновым бантиком на конском хвосте и в желтеньком шерстяном платьице с рюшками на шейке, сижу в отцовской ложе, мама, глядя в программку, замечает, что рабыню Адельму в спектакле будет играть “Максачиха”. Я начинаю испуганно рыдать, прямо в ложе, предчувствуя страшную опасность быть съеденной людой-едкой, и требую немедленно увести меня из театра. Сдавшись на мамины заверения, что это я все себе напридумывала и что нечего подслушивать взрослые разговоры, а то уши вырастут, как у слона, я успокаиваюсь, увидев наконец-то на сцене эту загадочную “Максачиху-людоедку” — вовсе не страшную атаманшу моих фантазий, а миловидную татарскую княжну, а теперь рабыню Адельму, которая, так же как и принцесса Турандот — Борисова, смертельно влюблена в принца Калафа — Ланового. Поскольку все каверзы Адельма устраивает из-за любви, я постепенно примиряюсь с ее злодейством. Знаю (опять же по подслушиванию взрослых разговоров): любовь — это такая неизлечимая болезнь, как у моих мамы с папой, когда всеми силами стараешься выздороветь и вылечиться, но не можешь.
Так что же все-таки произошло тогда, в шестьдесят третьем?
3 апреля 1963 года. Вахтанговское закулисье перед началом спектакля по пьесе Льва Толстого “Живой труп” в постановке Рубена Николаевича Симонова. В роли Феди Протасова Николай Гриценко, в роли Лизы, жены Протасова, — звезда советского экрана Людмила Целиковская, а в роли цыганки Маши начинающая актриса Людмила Максакова. Мама играет одну из цыганок в хоре, хотя к этому времени ее театральная карьера складывается совсем неплохо — она играет и главные роли бок о бок с Мансуровой, Лановым и Ульяновым, как, например, Ангелу в одноименной пьесе греческого драматурга Севастикоглу.