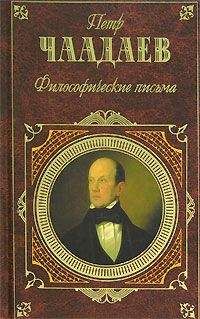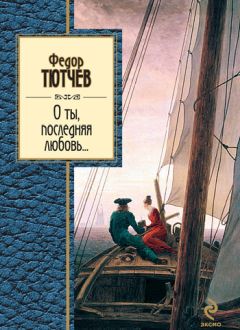Ольга Симонова-Партан - “Ты права, Филумена!” Об истинных вахтанговцах
А тогда, в шестьдесят третьем, Рубен Николаевич Симонов скандального происшествия простить не мог. У него была своя правда, спору нет. Во-первых, это было разнузданное поведение и нарушение театральной закулисной этики. Во-вторых, у него, восточного человека, не верующего в моногамию, был свой театральный гарем рабынь принцессы Турандот. Общеизвестно, что мало кто из вахтанговских актрис избежал занесения в его донжуанский список. В этом гареме были правила, которые никто в театре не осмеливался нарушать. Рубен Николаевич Симонов был непререкаемым авторитетом. Его обожали женщины и до сих пор гордятся прошлой связью с ним. Но никто, насколько мне известно, не решился от него заводить незаконнорожденное потомство. Это было против правил вахтанговского закулисья. Так, в своем пронзительном по откровению интервью, всего за несколько недель до смерти, Алла Александровна Казанская прожила заново на моих глазах несколько лет ее бурного романа с моим дедом, признавшись под конец, что мы могли бы быть родственниками, но Рубен Николаевич считал невозможным рождение от него внебрачного ребенка. Только после этого интервью с женщиной, которая до конца дней, как мне показалось, любила моего неотразимого, но довольно жестокого в отношении к женщинам деда, я вдруг окончательно поняла, какого рода восточное законодательство решилась нарушить моя мама. Рубен Николаевич был от нее в нескрываемом ужасе, она его при этом благотворила всю жизнь и свято чтила его память, считая величайшим художником, которого ей когда бы то ни было довелось встретить на жизненном пути. Было в нем, очевидно, что-то, магически действующее на женское воображение.
С его точки зрения эта взбалмошная дикарка, Разинкова, родственница ненавистного Захавы, бесстыдно родила у всех на виду от его женатого сына, и терзала его Женечку своим диким поведением. А он, этот Женя-идиот, не желал от нее отказываться. Ну ни в какую! Ну ладно… Это еще куда ни шло. Рубен Николаевич уже был почти готов смириться и подняться на четвертый этаж без лифта в Скатертном переулке, чтобы посмотреть на внучку и признать, а она, эта Разинкова безумная, учинила скандал в священных вахтанговских стенах. Публично оскорбила молодую актрису, дочь Марии Петровны Максаковой, с которой дед ставил на сцене Большого театра оперу Бизе “Кармен”. Но неуправляемый нрав цыганки-табачницы, столь чарующий зрителей и слушателей на протяжении нескольких веков, описанный Мериме и музыкально увековеченный Бизе, — это ведь реалии высокой культуры. Мало чем отличающиеся поведение реальной женщины, в жилах которой разбушевалась все та же неукротимая цыганская кровь пращуров, считалось недопустимым и жестоко наказуемым. Максаковой мой дед в это время всячески покровительствовал. Что это значит? Это значит — театр!
Вспоминает Екатерина Аркадьевна Райкина, до недавнего времени актриса театра имени Евгения Вахтангова:
— Это все случилось от отчаяния. Она в какой-то момент перестала себя контролировать. Мы с ней очень близко дружили в то время, и обе были в ужасе от того, как все, оказывается, делается в театре. Для меня многое за кулисами казалось диким. Я ведь тоже к театру относилась свято — так меня дома воспитывали. Все эти наши юношеские страсти, мой роман с Юрой Яковлевым и роман твоих родителей происходили у всех на виду. Все всё знали. Ничего было невозможно скрыть за кулисами. Лере кто-то сказал, что Женю видели возле театра, в арбатском кафе с Максаковой — и это было последней каплей. Она сама мне потом об этом говорила. Люда была уже загримирована, в красном платье, готовилась к выходу на сцену. Она играла цыганку Машу, но петь романсы она толком не могла. Рубен Николаевич пригласил изумительного гитариста, и выстроил в этой роли каждое движение, каждый поворот. Не ее это было дело — всем было ясно. Хотя Адельму в Турандот она играла очень хорошо — ей тоже там все выстроил Рубен Николаевич, я ведь Зелиму играла, так что все прекрасно помню.
У твоей мамы было удивительное лицо — я ее всегда называла Форнарина. Знаешь, возлюбленная Рафаэля? Удивительное лицо. Рубену Николаевичу, я думаю, непросто было выгнать Леру из театра. Он прекрасно понимал, как Женя ее любит. Но выхода у него не было.
Своей мученической любовью к отцу, тяжелой болезнью и ранней смертью мама искупила все. К театру она испытывала до конца дней своих какую-то священную любовь. Неуправляемость и юношеский максимализм с годами слегка поутихли. А тогда, в 1963 году, она была раздираема страстями: любовью к отцу, завистью к максаковскому театральному взлету и ее генетическому умению маневрировать в театральной среде. В довершение всего, судя по дневниковым записям, мама сама мечтала сыграть цыганку Машу. Театральное соперничество сродни любовному, каждое распределение ролей переживается теми, кто обделен ролью, как унизительный приговор в творческой несостоятельности. Одним словом, история эта состоит из клубка сложнейших сценических и закулисных хитросплетений. Было моей маме тогда всего лишь 26 лет, а уже в 34 года ей поставили страшный диагноз и начались ее физические мучения. И после этого все ее духовные междуоперационные силы шли, прежде всего, на методическое, самоотверженное воспитание меня с вечной присказкой: “Смотри на мое бездарное поведение и учись, как не надо”, на продолжение битв с отцом, на репетиции и выпуски спектаклей на сцене театра имени Ермоловой, где она играла в основном главные роли и обрела близких своему сердцу друзей. В театре Ермоловой, за кулисами и на гастролях с которым прошло мое детство, все было не так жестоко и опасно, как в вахтанговском, но истинного творческого удовлетворения она не получала и до конца дней своих считала себя ученицей вахтанговской школы, изгнанной по собственной глупости и по вине отца из ее обетованной земли.
Мама отчетливо осознавала чудовищность своего поступка и не раз рассказывала мне, что в бешенство ее привело стечение нескольких обстоятельств. Дело в том, что, по слухам, стремительный взлет Максаковой, пришедшей в театр Вахтангова несколькими годами позже мамы, был отчасти обусловлен ее связью с моим дедом, одновременно с этим она флиртовала с моим отцом и была в приятельских отношениях с мамой. Опять же для театральной среды явление вполне нормальное, а для Максаковой совершенно органичное. История эта звучала лейтмотивом моего детства и постоянно повторялась с различными новыми деталями:
— Она (фамилия всячески избегалась) предложила мне в гримерке кисточкой помочь загримироваться. Мы ведь с ней были дружны, она даже на дачу к нам приезжала, когда ты была еще совсем маленькой. У меня какое-то вдруг затмение наступило — ты знаешь, у меня это бывает, — ну тут меня и понесло, — всегда говорила мама, которая была глубоко убеждена, что именно этот эпизод повернул ее судьбу в трагически неверном направлении, и искренне сожалела о содеянном. И о том, что ударила человека по лицу, и о том, что потеряла Театр имени Евг. Вахтангова — Театр-праздник, в котором ее трагического свойства натуре возможно было существовать и как-то выживать “в этой страшной, безбожной стране”. Потеря вахтанговского пространства — это была потеря воздуха, крушение всех надежд. Ее хватание воздуха перед смертью, связанное с метастазами в легких, началось, по сути, тогда — сразу же после скандала и изгнания. Она и существовала всю свою короткую жизнь в изгнании, и дни ее были наполнены ежедневной пыткой. Вроде бы и живет на Арбате, напротив театра, и замуж вышла за своего Женю, а все одно — в изгнании.