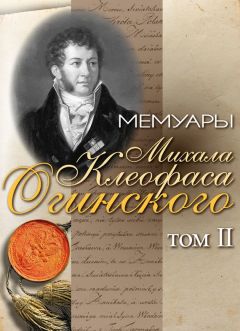Мечислав Яструн - Мицкевич
Он всей грудью вдыхал вольный фернейский ветер, чтобы, очистив младую кровь от монашеской доминиканской отравы, выйти навстречу избавительным и всеисцеляющим бурям беспокойного столетия, которое сумело совместить в своем роге изобилия дары разума и чувства, весть о могуществе человека и о слабости человеческой. Точь-в-точь как он, студент Виленского университета, соединил в сердце своем пылкое восхищение Декларацией Прав Человека и Гражданина с первой чувственной страстью, пламенную любовь к человечеству, вызволяющемуся из феодальных пут, с простодушной любовью к цветам и деревьям отеческого края, ибо для всеобъемлющего духа нет вещей настолько малых, чтобы он не смог прочесть в них иероглифов и символов великого дела человечества на земле.
«ФИЛАРЕТОВ СКАЗ»
Богиня Разума, возведенная XVIII веком на престол, восседала на нем не слишком уверенно. После наполеоновских войн правительства победоносной реакции тщатся воскресить предреволюционные общественные взаимоотношения. Священный союз жаждал, чего бы это ни стоило, повернуть историю вспять, на пути, уже пройденные ею. Но маховик истории остановить невозможно, можно разве что замедлить первые его обороты. На обломках алтаря Разума пытались вновь утвердить алтарь религиозной догмы — и вот был воскрешен орден иезуитов.
Польша не возвела ни единого Храма Разума, стало быть, и сносить было нечего. Отсталая в развитии общественных форм, она пыталась смягчить резкость новизны. Польские либералы первых двух десятилетий XIX века пытаются примирить воду и пламень.
«Либеральный дух, — писал «Паментник Варшавски»[36] в 1816 году, — не упрекает ни приверженцев свободы за то, что они поддерживают ужасы анархии, ни приверженцев религии за то, что им случалось восхвалять Варфоломеевскую ночь».
Против этого кроткого, всепримиряющего духа и поднялась иезуитская реакция, поддержанная родимой шляхетской темнотой, ханжеством и суевериями.
Смелым пером ответил иезуитам Ян Снядецкий; он измывался над богословами, пытающимися своими сутанами затмить и погасить «Светоч Разума». Он выступал против доморощенных обскурантов, которые провозглашали, трубили в самые уши народу, породившему Коперника, унизительный принцип: «Тот, кто родится на сей земле, годится разве для того лишь, чтоб трудиться из-под палки». Иезуитские принципы прочно засели в шляхетских мозгах. Обскуранты могли быть спокойны за будущность нации на задворках Речи Посполитой, несмотря на то, что царские власти в 1820 году прикрыли Полоцкую академию и изгнали иезуитов.
Когда император Александр стал царем польским, на Литве, обескураженной недавним поражением Наполеона, преследованиями и трауром по множеству утраченных иллюзий, как это ни странно, начала господствовать большая свобода. Ощутили ее прежде всего учебные заведения и печать. Тогда-то и было основано «Общество бездельников», поддержанное такими личностями, как Енджей Снядецкий, Шимкевич, Шимон Жуковский[37].
В эту эпоху Европа Священного союза буквально кишела бесчисленными тайными обществами. Набирались силы организации масонов и карбонариев, множились клубы записных мятежников против обветшалого общественного строя, против тирании правительств.
Александр Первый мечтал о том, чтобы направить движение вольных каменщиков в тихое русло; в этих целях он и сам вступил в масонскую ложу. Литовским масонам в то время не приходилось конспирировать. Из недр масонства вышли смелые реформаторы нравственной жизни. «Шубравцы» (бездельники), иронически назвавшие себя этим именем, спустя некоторое время отошли от масонских лож, ибо масонство отталкивало их своим чрезмерно пышным церемониалом, граничащим порою со средневековой мистикой.
С масонами не порвала, однако, новая организация Виленской молодежи, принявшая имя филоматов[38]. Организация эта явно переходила от целей общеэтических и самоусовершенствовательных к реформаторским и патриотическим. «Общество филоматов» в первом параграфе своего устава, казалось бы, отмежевалось от какой бы то ни было политической деятельности; общество должно было преследовать прежде всего и исключительно просветительные, научные, нравственные цели. Председателем общества был Ежовский, секретарем — Петрашкевич. Число участников было поначалу ничтожно малым, новых принимали с оглядкой. Юзеф Ежовский, председатель общества, был студентом весьма начитанным в классической словесности, философом вообще и даже — чем черт не шутит! — кантианцем, хотя и не по летам уравновешенным и даже несколько заскорузлым и, может быть, не вполне справедливым в своем морализаторском педантизме. Большей разносторонностью в увлечениях и страстях отличался Томаш Зан. Все отзывы о его характере, дошедшие до нас, совпадают в одном: все дивятся его нравственной чистоте. Но в противоположность Ежовскому Зан терпимо относился к слабостям человеческим, и, хотя нас и может удивлять у такого желторотого юнца чрезмерно наставнический тон,
Томаш Зан не грешил менторством. Просто так у него выражалась искренняя забота о человечестве. И у него самого было немало слабостей, особенно он был неравнодушен к прекрасному полу. Но, по-видимому, слабость эта была у него совершенно платонической. Это целомудрие Зана, эта его сладкоречивость, его страсть все на свете поэтизировать были бы почти невыносимы в компании жизнерадостных юнцов, если бы не то уважение, которое они испытывали к его учености. Он был ревностный математик и естествоиспытатель. Таким образом, его весьма скромные занятия поэзией носили характер совершенно частного увлечения. Его пастушеские триолеты, которые он посылал в эпистолах своих разным виленским прелестницам, были выдержаны в духе давно уже миновавшей сентиментальной эпохи.
Эти милые безделки в стиле рококо были красноречивым свидетельством отсталости юных виленских провинциалов: время в западной Европе шло в ту пору куда как быстро, а им нелегко было угнаться за Западом.
Ян Чечот, которого мы уже знаем по его переписке с Мицкевичем, во многом напоминал Томаша Зана. Но всех их превосходил, однако, Францишек Малевский, разумный и ясномыслящий правовед, который в этом дружеском кружке был, пожалуй, ярчайшим представителем эпохи Просвещения. Наименее притязательным среди товарищей был Онуфрий Петрашкевич[39], человек практичный, дотошный, толковый организатор; он выделялся среди всех этих зеленых юнцов даже внешностью своей — у него были обвисшие усы. Он был грубоват, движения его были резкие и размашистые. Был еще Домейко[40], позднейший мемуарист, который в чрезмерно, быть может, плаксивых воспоминаниях воздвиг монумент филаретам. В тени этих корифеев общества оставался невзрачный и простоватый Лозинский[41].