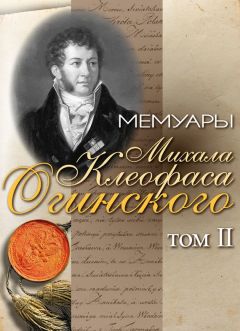Мечислав Яструн - Мицкевич
Тут впервые в жизни Мчцкевич ощутил сладость общения с другими людьми. И даже тогда, когда, изнемогая под бременем неразделенной любви, он ищет уединения, он знает все же, что окружен чувствами и помыслами друзей, которые о нем по-братски заботятся.
Ящик Пандоры, который он, по выражению Малевского, носил в груди своей, содержал утехи и отрады, а отнюдь не зародышей змей. Только позднее это все изменится, но что-то от юношеского настроения останется в нем и на склоне лет. Он отплатил впоследствии друзьям своим за их добрые чувства даром великим и в то же время причиняющим боль, — он обессмертил их, хотя они и не заслуживали бессмертия. Другие, столь же или не менее достойные, чем они, не удостоились этой милости. Милости, впрочем, жестокой, ибо она лишила их вечного успокоения. Благодаря ему и по его прихоти они стоят перед нами, как живые, со всеми своими слабостями и смешными сторонами, которых они устыдились бы, ибо все они были людьми образованными, воспитанными, обладающими житейским тактом и чувством юмора.
Филоматы до конца оставались крайне малочисленным обществом. Но большой наплыв кандидатов в члены кружка вынудил их создать Дочернее общество, которое Ежовский назвал «Обществом филаретов»[42]. Это новое общество расширялось с каждым месяцем. В Вильно прибыл тайный организатор революционных союзов Огинский[43]; он принес вести о русской молодежи, которая готовила заговор, возглавляемый Пестелем и Муравьевым. Эти русские инсургенты пытаются завязать отношения с польской молодежью. Появился Станислав Ворцель[44], будущий польский социалист. Внезапно по указанию ректора Шимона Малевского, который в страхе перед российскими властями пытался склонить филаретов к самороспуску, была сожжена часть архива общества. Остальное спас Онуфрий Петрашкевич. Правда, установлено, что в остатках архива не было ни богоборческих помыслов, ни революционных воззваний. Но подозрительность царской полиции передалась также попечителю — князю Чарторыйскому, Происками князя, который в ту пору играл на руку Новосильцеву[45], был снят с поста ректор Малевский. Новый ректор, Твардовский[46], пойдет еще дальше, будучи покорным орудием в руках Новосильцева. Вслед за Малевским наступила очередь других профессоров, пользующихся всеобщей симпатией.
Малевский, передавая ректорские прерогативы Твардовскому, подчеркнул, что по поручению его сиятельства князя-куратора он внимательно и неусыпно следил за поведением студентов Томаша Зана, Теодора Лозинского и Адама Мицкевича, учителя, и не нашел в их действиях ничего, что потрясало бы устои господствующего порядка. Но это мало помогло. Они остались на заметке. Ежовскому и Мицкевичу власти отказали в выдаче заграничных паспортов. А ведь они, по всей вероятности, вовсе не намеревались бежать из страны, быть может, им это даже и во сне не снилось. Может быть, они попросту хотели совершить заграничный вояж. Но уже само желание выехать за границу не импонировало властям предержащим.
Осторожность не помогла, а уж в недостатке осторожности филоматов никак нельзя было упрекнуть. Именно эта осторожность не позволила Зану наладить взаимопонимание с будущими декабристами относительно грядущих совместных действий. Мы сказали бы, что эти «лучистые» были осторожны не по возрасту, но они были в то же время ребячливы в своих платонических фантазиях, смешны и трогательны в своем пресловутом «молитвеннике лучистых» (явно подражающем католическим молитвам), где после обращения к Отцу, Лучу Света, то есть, видимо, к Томашу Зану, следовало: «Лучезарная Феля, радуйся, Зан с тобой».
Эта вот божественная Феля и была Диотимой «лучистых», ибо в конце концов и в их стройные ряды, вернее — в тесный кружок этих юных платонистов, прокрался коварный Эрос. Они шутя толковали о некоем «эрометре», то есть приборе, указывающем температуру любовного, эротического пламени.
Томаш Зан представлял, кажется, исключение. Он слагал песенки в честь пресловутой Фели, но встречался с ней не часто, а уж, едва завидя ее, алел как маков цвет и смущался до последней степени. Филоматы не очень-то жеманничали в своем кругу, любили ввернуть при случае крепкое словцо и порой изъясниться на своем студенческом жаргоне, полном двусмысленностей.
«Однажды по своей опрометчивости, — пишет Отто Слизень[47] в своих мемуарах, — я, сам того не желая, восстановил Томаша Зана против себя, когда он в черном фраке и лягушачье-зеленых панталонах в обтяжку — тогда их уже носили — галантно развлекал прекрасный пол, толкуя о значении различных цветов. При виде зеленых его панталон мне взбрела на ум некая двусмысленность, и я в полном восторге прошептал ему на ухо свою остроту. Но, заметив внезапное и грустное изменение его лица, я слишком поздно вспомнил, что высшая добродетель филомата — держать язык за зубами. На весь остаток вечера я испортил ему настроение. Он ушел домой раньше, чем обычно, и еще той же ночью подарил слуге своему эти злосчастные панталоны».
Зан, как некогда Плотин, стыдился своего тела, Прочие филоматы были, правда, не столь целомудренны. Адам, а он среди филоматов и «лучистых» был не из последних, едва ли был исключением среди друзей, и не он один знал любовь не только по соблазнительным книжонкам да трепетным взглядам. Эти молодые дюжие хлопцы были отличным человеческим материалом: из них можно было сделать и профессоров и солдат. При соответствующем стечении обстоятельств они могли бы стать революционерами. Они ведь конспирировали, и, пожалуй, весьма умело. Виленский процесс вызовет в них сильное чувство солидарности, великую сплоченность и готовность идти на жертвы. Этот кружок юношей, прекрасных в своем стремлении к нравственному совершенству, воспитанных Веком Просвещения, его пылким свободолюбием и наивной верой во всеобщее единение разумного человечества, этот кружок литовских поляков, прислушивавшийся к хору братских организаций — франкмасонов и карбонариев, сам по себе, без Мицкевича, не имел бы голоса.
Уставы общества, сочиненные этими ребятами, занудливы без меры, песенки, сложенные виршеплетами из филоматов, не выходят за рамки сентиментального шаблона давно уже истекшего столетия. Адам дал голос этому сообществу добрых друзей, голос настолько могучий, что его даже не сразу поняли.
«Ода к молодости» родилась из совместных мечтаний о переустройстве мира, она началась с крепкого пожатия филаретских дланей, но взвилась так высоко над землей, что почти исчезла с глаз, поднялась куда выше, чем аэростат Бланшара[48], воспетый некогда Трембецким. И что из того, что полет ее был обременен завитушками в стиле классических од, в сочинении которых так понаторели поэты герцогства Варшавского. Она поражала отдельными оборотами простонародного звучания, напоминала обращение к бойцам на марше, призыв к идущим в бой.