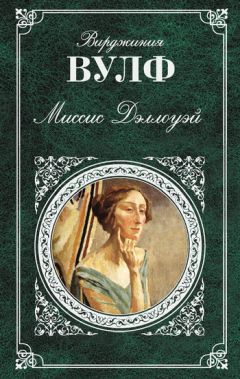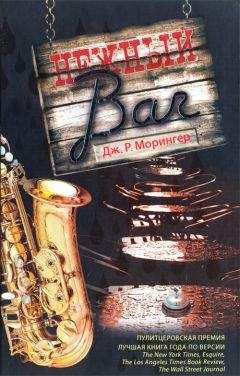Вирджиния Вулф - Дневник писательницы
Среда, 7 августа[1]
В ашемский дневник я до последней мелочи изливаю все, что попадает в поле моего зрения; цветы, облака, пчелы, цены на яйца; но ведь кроме этого писать больше не о чем. Трагедия — раздавленная гусеница, счастье — вечернее возвращение из Льюиса слуг, нагруженных военными книжками для Л. и «English Review» для меня, «Лигой наций» Брейлефорда и «Блаженством» Мэнсфилд. «Блаженство» я отбросила с воплем: «С ней покончено!» В самом деле, мне непонятно, как можно оставаться честной женщиной и честной писательницей и творить такое. Приходится, к сожалению, принять тот факт, что ее разум — очень тонкий слой почвы, всего в дюйм-два, под которым сплошной бесплодный камень. «Блаженство» — довольно длинная вещь, и это давало ей шанс копнуть глубже. А она удовлетворилась внешним изяществом; вся ее концепция — дешевка; к тому же, здесь ни на грош проницательности (хоть какая-то должна же быть) небанально мыслящего человека. И пишет она плохо. В результате, повторяю, у меня сложилось впечатление о ней как о черством и холодном человеке. Потом прочитаю еще раз. но не думаю, что изменю свое мнение. Она будет продолжать в том же духе к полному своему и Марри удовольствию. Хорошо, что они не приехали. Или нелепо толковать рассказ по характеру?
Так или иначе, я с удовольствием вернулась к моему Байрону. У него, по крайней мере, не отнимешь мужской привлекательности. В самом деле, поразительно, до чего мне легко представить его влияние на женщин — особенно на глупеньких и не очень образованных женщин, которые не умели подняться до него. К тому же почти все хотели его перевоспитать. С самого младенчества у меня была привычка (как говорил Гертлер, словно доказывая особую примечательность своей персоны) досконально изучать биографию и дополнять возникающий в моем воображении образ любыми подробностями, которые мне удавалось отыскать. Но в разгар страстной любви из самого неподходящего издания вдруг выскакивало имя Каупера, или Байрона, или кого-то другого, и мое творение становилось далеким и ничем не отличающимся от прочих мертвецов. Меня впечатляет поразительная ничтожность поэзии Б. — той поэзии, которую Мур цитирует с почти несказанным восхищением. Почему принято думать, будто его наиболее вдохновенные стихотворения в «Альбоме»? Читаются они не лучше, чем стихи Л.Э.Л. или Эллы Уилер Уилкокс. Из-за них он не сделал того, что, как сам осознавал, мог бы сделать, то есть написать сатиру. Сатиры (пародии на Горация) и «Чайльд Гарольда» он привез из путешествия на Восток. У него не было сомнений в том, что «Чайльд Гарольд» — лучшая из когда-либо написанных поэм. Тем не менее, в юности ему не хватало веры в свою поэзию, что в случае такого самоуверенного и категоричного человека доказывает отсутствие таланта. Вордсворты и Китсы безоговорочно верят в себя. Кстати, Байрон немного напоминает мне Руперта Брука, хотя для Руперта это не комплимент. Как бы то ни было, в Байроне было что-то необыкновенное, и это доказывают его письма. Во многом он был замечательной личностью, но так как никто не высмеивал его жеманство, то со временем он стал больше похож на Хораса Коула, чем хотелось бы. Посмеяться над ним могла бы только женщина, но женщины его боготворили. Я еще не добралась до леди Байрон, но, полагаю, она тоже осуждала его вместо того, чтобы над ним смеяться. И он стал байронической личностью.
Пятница, 8 августа
В отсутствие человеческого интереса к себе, благодаря которому обретаешь покой и радость жизни, можно заниматься и Байроном. Заметив свою готовность, несмотря на преграду в сто лет, влюбиться в него, боюсь, мое суждение о «Дон Жуане» немного пристрастно. Полагаю, это самая читаемая поэма такого объема из всех, когда-либо написанных: отчасти благодаря пружинистой, беспорядочной, бессистемной, несущейся вскачь форме. Такая форма — сама по себе открытие. Ее искали и прежде, но напрасно, — растягивающуюся форму, способную вместить все, что только приходит в голову. С ее помощью Байрон может описывать любое настроение, каким оно нисходит на него, может озвучивать любые занимающие его мысли. Так как он не стремится к поэтичности, то нет и следа его злого гения — фальшивой романтичности и образности. Когда он серьезен — он искренен и может писать о чем угодно. И он пишет шестнадцать канто, ни разу не почувствовав нужды в шпорах. Очевидно, у него был быстрый находчивый ум, который мой отец, сэр Лесли, считал исключительно мужской привилегией. Я утверждаю, что такие неправильные книги гораздо интереснее правильных, благоговейно почитающих иллюзии. Все же примеру Байрона следовать нелегко; ведь вольные и легкие веши может успешно сотворить лишь искусное и зрелое перо. Байрона переполняли мысли — и это придает его стихам такую плотность, что посреди чтения я позволяю себе маленькие экскурсии по окрестностям или по комнате. А сегодня вечером я доставлю себе удовольствие и дочитаю поэму до конца — хотя, если учесть радость почти от каждой стансы, мне непонятно, почему это называют удовольствием. Впрочем, и иначе не скажешь, о какой бы книге ни шла речь, о хорошей или о плохой. Вот и Мэйнард Кейнс говорил, что всегда отделяет рукой печатающиеся в конце объявления, чтобы точно знать, сколько страниц еще осталось.
Понедельник, 19 августа
Кстати, я одолела «Электру» Софокла, которая мне плохо давалась, хотя в общем-то это не такое уж страшно трудное чтение. Каждый раз я заново восхищаюсь великолепным сюжетом. Кажется, его нельзя было не воплотить в хорошую пьесу. Не исключено, что все дело в долгой разработке традиционных сюжетов, которые придумывались, улучшались и освобождались от всего лишнего стараниями бесчисленных актеров, сочинителей и критиков, пока не становились похожими на отполированные морем стекляшки. К тому же если публика обо всем знает заранее, то на этом можно отлично сыграть и обойтись без лишних слов. Как бы то ни было, мне всегда казалось, что невозможно произнести одинаково слово за словом весь текст и придать нужный вес каждой фразе и каждому намеку, поэтому очевидная скудость слов — лишь поверхностное впечатление. Однако есть другая опасность — неправильно прочитать эмоциональный контекст. Мне всегда обидно, когда я обнаруживаю, как много упускаю в сравнении с Джеббом; разве что у меня возникает сомнение, не видит ли он слишком много, — полагаю, такое не исключено, если все время работать с плохими английскими пьесами современных авторов. Наконец, столь же сильным, сколь трудно объяснимым, остается особое очарование греческого языка. С первых же слов нельзя не ощутить огромную разницу между оригинальным текстом и переводом. Героическая женщина есть героическая женщина и в Греции, и в Англии. Это тип Эмилии Бронте. Как мать и дочь Клитемнестра и Электра должны любить друг друга, и, возможно, именно любовь, приняв неправильную форму, обернулась лютой ненавистью. Э. — тип женщины, для которой семья превыше всего; отец. У нее гораздо сильнее развито почтение к традиции, чем у ее братьев; и она ощущает себя дочерью отца, а не матери. Странно, но обычаи греков, какими бы они ни были ложными и смешными, никогда не производят впечатление мелочных и недостойных, в отличие от наших английских обычаев. Электра вела куда более замкнутый образ жизни, чем женщины середины Викторианской эпохи, однако это никак не отразилось на ней, разве что сделало ее суровой и величественной. Ей не полагалось выходить на прогулку в одиночестве; а у нас нельзя было обойтись без горничной и экипажа.