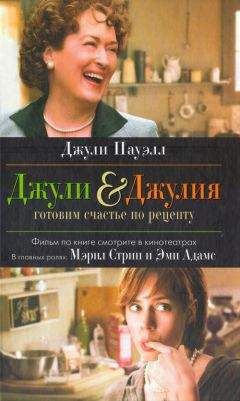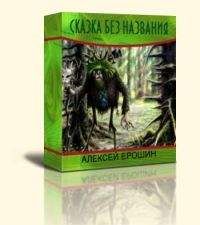Ингмар Бергман - Жестокий мир кино (Лaтepнa магика)
Вот он сидит, грузно склонившись над рабочим столом в своей заставленной мебелью комнате, пленка закреплена на освещенном снизу матовом стекле. Очки сдвинуты на лоб, в правом глазу — лупа. Он курит короткую изогнутую трубку, на столе — еще несколько таких же трубок, вычищенных и набитых табаком. Я смотрю не отрываясь на крошечные фигурки, быстро и уверенно возникающие на квадратиках пленки. Работая, дядя Карл говорит и посасывает трубку, говорит и постанывает:
— Вот здесь цирковой пудель Тедди делает кувырок вперед, это у него хорошо получается, это он умеет. А теперь свирепый хозяин цирка заставляет бедного песика сделать сальто назад — Тедди не может. Он ударяется головой в манеж, в глазах у него звезды и солнца — звезды сделаем другого цвета, красные. На голове у него выросла шишка, пойди‑ка в столовую, выдвинь левый ящик буфета, там лежит пакетик конфет, они их спрятали, потому что Ma говорит, что мне нельзя есть сладостей. Возьми четыре конфеты, только осторожно, смотри, чтобы никто не увидел.
Я выполняю поручение и получаю одну конфету. Остальные дядя Карл запихивает в толстогубый рот, от жадности пуская слюни. Он откидывается на спинку стула и, прищурившись, смотрит на серые зимние сумерки.
— Я тебе что‑то покажу, — вдруг произносит он, — только не говори Ma.
Он встает и идет к столу, над которым висит абажур, зажигает лампу, ее желтый свет падает на восточный орнамент скатерти. Дядя Карл садится и предлагает мне занять место по другую сторону стола. Оборачивает один конец скатерти вокруг кисти левой руки и сперва осторожно, а потом все быстрее начинает крутить и вертеть рукой. И наконец кисть отделяется от руки на уровне накрахмаленной манжеты, капельки какой‑то мутной жидкости капают на стол.
— У меня есть два костюма, каждую пятницу я должен являться к твоей бабушке, чтобы поменять белье и костюм. И так продолжается уже двадцать девять лет. Ma обращается со мной как с ребенком. Это несправедливо, Бог накажет ее. Бог наказывает власть имущих. Гляди, в доме напротив пожар!
Сквозь свинцовые облака пробилось зимнее солнце, ярко вспыхнули окна в доме напротив, на Гамля Огатан. На обоях загорелись прямоугольники густого желтого цвета, правая половина лица дяди Карла пламенеет. На столе между нами лежит оторванная кисть.
После смерти бабушки опекуном стала моя мать. Карла перевезли в Стокгольм, где он снимал две комнатушки у старушки сектантки, жившей на Рингвеген, недалеко от Етгатан.
Старый порядок был восстановлен. Каждую пятницу Карл являлся в пасторский особняк, получал чистое белье, переодевался в вычищенный, отглаженный костюм и обедал со всем семейством. Он не менялся, такой же грузный и круглый, такой же розовощекий, с фиалковыми глазами за толстыми стеклами очков. По — прежнему без устали атаковал Патентное бюро своими изобретениями. По воскресеньям пел псалмы в миссионерской церкви. Мать управляла всеми его финансами, выдавая ему еженедельно карманные деньги. Он звал ее «сестра Карин» и иногда иронизировал над ее беспомощными попытками подражать бабушке: «Ты хочешь быть как мачеха. Не старайся. Ты для этого слишком добрая. Мамхен была безжалостна».
В одну из пятниц к нам пришла хозяйка дяди Карла. У них с матерью состоялся долгий разговор наедине. Рыдания хозяйки разносились по всему дому. Спустя два — три часа она, опухшая от слез, удалилась. Мать отправилась на кухню к Лалле, опустилась на стул и, смеясь, сказала: «Дядя Карл обручился с женщиной на тридцать лет моложе его».
Через пару недель обрученные нанесли визит. Они хотели обсудить с отцом церемонию венчания — она должна быть простой, но по — церковному торжественной. На дяде Карле была свободная, спортивного покроя рубашка без галстука, клетчатый блейзер и отутюженные фланелевые брюки без единого пятнышка. Свои старомодные очки он заменил современными в роговой оправе, высокие ботинки на застежках — мокасинами. Он был немногословен, собран, серьезен. Ни единой путаной мысли, ни единого дурашливого выражения.
Дядя Карл поступил работать сторожем в церковь Софии. Свою изобретательскую деятельность он забросил:
— Видишь ли, Schwesterchen[1], это была иллюзия.
Невесте, тошей, небольшого росточка женщине с костлявыми плечами и длинными худыми ногами, было немного за тридцать. Крупные белые зубы, собранные на затылке волосы медового цвета, длинный правильной формы нос, тонкие губы и круглый подбородок. Глаза темные, блестящие. На жениха она смотрела ласковым взглядом собственницы, крепкая рука как бы по рассеянности покоилась на его колене. Она была преподавательницей физкультуры.
Пожизненное опекунство должно быть отменено:
— Представления мачехи о моих умственных способностях было одной из ее иллюзий. Она была властным человеком, ей надо было держать кого‑нибудь в своей власти. Schwesterchen никогда не сможет стать такой же, как мачеха, сколько бы она ни старалась. Это иллюзия.
Невеста разглядывала семейство своими блестящими черными глазами и молчала.
Через несколько месяцев помолвка была расторгнута. Дядя Карл возвратился в комнатушки на Рингвеген и ушел с работы в церкви Софии. Он доверительно сообщил матери, что был вынужден покончить с изобретениями. Невеста пыталась всячески препятствовать ему, дело доходило до скандалов и драк, у Карла на щеке остались следы ногтей:
— Я думал, что могу покончить с изобретательством. Это было иллюзией.
Мать вновь взяла на себя опекунство, каждую пятницу дядя Карл приходил в пасторскую усадьбу, менял костюм и нижнее белье и обедал с семьей. Его страсть писать в штаны усилилась.
Но у него была еще одна, гораздо более опасная склонность. Отправляясь в Королевскую библиотеку или в Городскую библиотеку, где он любил проводить дни, он делал крюк и шел через железнодорожный туннель под Сёдером. Сын транспортного инженера, построившего железную дорогу между Крюльбу и Иншён, дядя Карл обожал поезда. Когда они с грохотом проносились мимо него в туннеле, он прижимался к скалистой стене, грохот приводил его в восторг, скала сотрясалась, пыль и дым опьяняли.
Однажды весенним днем его обнаружили сильно изуродованным, лежащим на рельсах. Под брюками нашли клеенчатый пакет с чертежами приспособления, упрощающего замену ламп в уличных фонарях
IIIКогда мне было двенадцать лет, один музыкант, игравший на челесте в «Игре снов» Стриндберга, разрешил мне во время представления сидеть за сценой. Впечатление было ошеломляющее. Вечер за вечером, спрятавшись в башенке просцениума, я становился свидетелем сцены бракосочетания Адвоката и Дочери. Впервые в жизни я прикоснулся к магии актерского перевоплощения. Адвокат двумя пальцами — большим и указательным — вертел шпильку для волос, сгибал ее, распрямлял, переламывал пополам. В руке у него не было ничего, но я видел эту шпильку! За кулисами стоит в ожидании своего выхода офицер. Чуть наклонившись вперед, рассматривает свои ботинки, руки за спиной, беззвучно откашливается — самый что ни на есть обыкновенный человек. Но вот он открывает дверь и выходит на сцену. И мгновенно изменяется, преображается, он — Офицер!