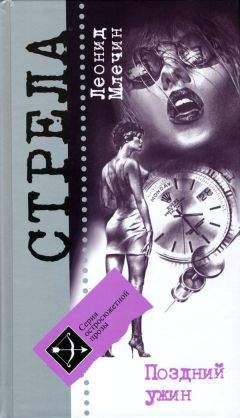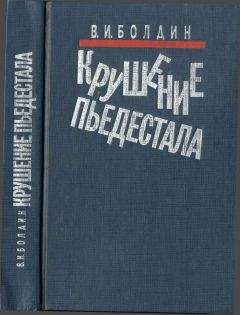Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
Ну а пока что, 6 июня 1893 года, мать и сын прибывают на станцию Сарыголь, оттуда на извозчике отправляются в Феодосию. «Весь воздух был напоён запахом цветущих акаций», — вспоминает Волошин. Он заранее настроен восторженно, так что «этот по существу убогий вид Феодосии, с низкими и пологими холмами, показался мне грандиозным и блестящим». Впрочем, на первых порах юноша не увидел того «юга», который существовал в его воображении. Как писал Волошин впоследствии, он искал в Коктебеле «общих мест», их же тут было необычайно мало. «Первое лето я видел только скупость и скудость природы и красок. А их необыкновенная выразительность и элегантность для меня оставались недоступными. Понадобились долгие годы моей юности, посвящённые искусству и странствиям, чтобы открыть оригинальность и красоту Коктебеля».
Павел Павлович Теш, ставший гражданским мужем Елены Оттобальдовны, приехал на место раньше Волошиных и, встретив их в Феодосии «на тряской и очень неудобной телеге», сопровождал к новому месту жительства. «Впечатления дороги меня не пленили», — вспоминает Макс. Столовались новоявленные крымчане «в двух хатках, принадлежащих Юнге, окружённые всеми домашними животными, которых приобрёл П. П. Теш, заводя здесь своё хозяйство.
Приходили коровы и, отстранив нас ударом рогов, жевали хлеб со стола. Петухи и куры налетали на нас и выклёвывали из рук куски. Лошади тянулись к солонкам, а поросёнок так сжился с собакой, что принимал её манеры и кидался на проходящих. Хозяйство Теша напоминало не то хозяйство дальнего Запада по романам Брет Гарта, не то хозяйство Ноя, только что вылезшего из ковчега на склонах Арарата после потопа». Первоначальное обиталище Теша — Волошиных не сохранилось. Осталось лишь место на холме, именуемое сегодня «горкой Теша».
Постепенно всё становится на свои места.
Тут хорошо. Спокойно, безучастно,
Без бури и тревог тут жизнь моя течёт,
Тут воздух вечно чист, тут небо вечно ясно,
И море синее волной не шелохнёт.
Тут в красоте своей спокойны вечно горы,
И даль синеет, вся прозрачна и ясна,
И всё кругом так чудно нежит взоры,
И жизнь тут так дивно хороша.
Завороженный горными вершинами Карадага, Макс поднимается на Святую гору, как полагают, ту самую, где когда-то в древности почитали бога врачевания Асклепия. Совместно с Тешем, «человеком европейски образованным», Волошин исследует окрестности, заполняя время беседой, взбирается на все окружающие долину возвышенности и попадает в романтическое приключение: вместе с Тешем вызволяет лошадей, украденных цыганами.
Коктебель в переводе с тюркского — «страна синих скал». Волошин вскоре назовёт её «родиной духа». А пока что он вживается в дивную, хоть и суровую атмосферу этих мест, что сразу находит отражение в стихах:
Солнце жаром палит,
Раскаляя гранит,
И ни облачка на небосклоне.
Все деревья стоят,
И листы не шуршат,
И не движется ветер на воле.
Тихо плещет волна,
Будто неги полна,
И гуляет себе на просторе,
И без меры в длину,
Без конца в ширину
Расстилается Чёрное море.
Упоминая это стихотворение в своей книге «Судьба поэта», И. Т. Куприянов высказывает предположение, что оно, быть может, первая поэтическая зарисовка Восточного Крыма. Во всяком случае, это уже не ученические упражнения в стихах. Литературный почерк молодого поэта становится более уверенным, слог — чётким и пластичным. В стихах того же периода уже ощущается умение Волошина передавать настроение через пейзаж, через одухотворение природы:
Тихо всё. Стоят чинары
В надвигающейся мгле.
Зажигаются стожары
В поднебесной вышине.
На вершине Четыр-Дага
Солнца луч ещё горит,
А внизу — на дне оврага
Ручеёк во мгле журчит.
Море тихо, и волною
Ветерок не шелохнёт.
Из аула над горою
Говор смешанный идёт.
Первым из напечатанных стихотворений о Крыме принято считать то, которое начинается строками:
Зелёный вал отпрянул и пугливо
Умчался вдаль, весь пурпуром горя…
Оно датировано 1904 годом. Но от этого маленького шедевра Волошина отделяло ещё десять лет, посвящённых учёбе в гимназии, университете, а также — странствиям по Европе…
А пока надо было продолжать своё образование и в очередной раз менять учебное заведение. Макс поступает в пятый класс феодосийской казённой гимназии. Обстановка там по сравнению с Москвой, гимназией московской, кажется не такой уж затхлой. О престиже заведения и качестве преподавания заботился директор гимназии, литератор и краевед, Василий Ксенофонт Виноградов, пользующийся большим уважением и среди феодосийской интеллигенции, и среди своих питомцев.
Итак, в конце августа 1893 года в феодосийской гимназии стало одним учеником больше, а город пополнился ещё одним чудаком. На голове у этого чудака-гимназиста красовалась летняя парусиновая фуражка с непомерно большим козырьком и довольно высокой тульей. Среди однообразных гимназических фуражек эта, сшитая на индивидуальный вкус, не могла не привлекать всеобщего внимания. Ещё больше бросалось в глаза поведение юноши: шагая по улице, он беспрестанно бормотал себе под нос стихи, подчёркивая ритм плавным движением руки. Оригиналом в «белом колпаке» был не кто иной, как Макс Волошин, чьё бормотание стихов вкупе с головным убором, изобретённым Еленой Оттобальдовной, «дало общий тон отношения» к нему феодосийцев: «оригинальничанье». Впрочем, у Макса был для этого повод: «Мои стихи и моя начитанность произвели в педагогической среде такое впечатление, что ко мне стали педагоги относиться как к „будущему Пушкину“».
Ну а что же тогда представлял собой «богоспасаемый» «древний град», столь часто впоследствии воспеваемый поэтом?.. Волошин «застал Феодосию крохотным городком, приютившимся в тени огромных генуэзских башен, ещё сохранивших собственные имена — Джулиана, Климентина, Констанца… на берегу великолепной дуги широкого залива… В городе ещё оставались генуэзские фамилии… Тротуары Итальянской улицы шли аркадами, как в Падуе и в Пизе, в порту слышался итальянский говор и попадались итальянские вывески кабачков. За городом начинались холмы, размытые, облезлые, без признака развалин, но насыщенные какою-то большою исторической тоской». Поэт обращает внимание на фонтаны, «великолепные, мраморные»; их тридцать шесть, но они «без воды» — пресную воду привозили на пароходах из Ялты. Макс делает внешние зарисовки. Словом. Однако «рентгеновский луч» сознания уже направлен в глубь себя, в душу. Дневник — его постоянный спутник, но честен ли он с ним? И вырывается неожиданное: «…ложь, ложь, ложь! Я писал ведь его, собственно, не для себя, а чтобы его прочитали другие… Теперь я пишу для того, чтобы научиться хоть самому себе правду говорить…» О чём? Да конечно же о своём призвании: «…могу ли я быть писателем?.. У меня стихи выходят лучше, чем у всех товарищей московских, но что ж из этого. Вот уж больше полугола прошло, а я ещё не написал ни одного стихотворения… Страшно! Если я не буду писателем, то чем же я буду?» Какая внутренняя драматургия! Какой откровенный вызов собственной душе!..