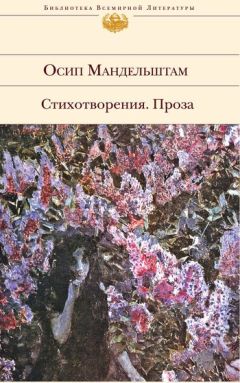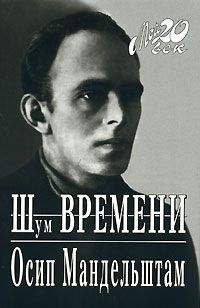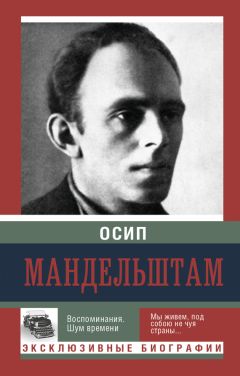Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам
В Харькове нам рассказывали про новинки, уже ставшие достоянием широкого круга. До России дошли задержавшиеся из-за войны слухи о теории относительности и о Фрейде. О них говорили все, но сведенья были уж слишком смутными и бесформенными. Более конкретными оказались рассказы о писателях, уже успевших подать свои заявки. Тогда гремел Пильняк – это был его день. Всех волновала новая тема. В Грузии мы отвыкли разговаривать с людьми, потому что там шел свой разговор между своими, в число которых мы не попали и попасть не могли. В Харькове нас поразило, что никто не разговаривает. Разговор оборвался – и навсегда. Зато появилась масса рассказчиков, и они наперебой выкладывали свои анекдоты.
У нас была кое-какая одежонка. Центросоюз в Батуме вышел в меценаты и за лекцию о Блоке выдал Мандельштаму материю на костюм и на два платья для меня. Мандельштам в 34 году (конец апреля) вспомнил, как мы «над лимонной Курою в ущелье балконном шили платье у тихой портнихи…». В мае рукопись отобрали, и она пропала. Восстановить стихотворение нам не удалось – оно было слишком свежим. Шуба, послужившая толчком к очерку, енотовая, плешивая, была куплена на базаре. Морозы в тот год стояли жестокие, и мы остро их чувствовали после юга.
Мандельштам заметил, что у всех возникла новая нота: люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны. Говорить, что пора обуздать народ, еще стеснялись, но это желание выступало в каждом высказывании. Проскальзывала формула: «Пора без дураков…» Нарастали презрение и ненависть ко всем видам демократии и, главное, к тем, кто «драпанул». Огромным успехом пользовалась легенда о том, что Керенский бежал в женском платье. Назрели предпосылки для первоклассной диктатуры – без всякой тени апелляции к массам. Уже стало ясно, кто победители, а им всегда – почет и уважение. Старшие поколения, еще демократичные, вызывали грубые насмешки молодых. Года через два я шла с Мандельштамом по мосту через Неву, и он показал мне старика в рубище, еле передвигавшего ноги. Это был известный историк[1], и подростком я читала его толстые томы. Исторические концепции этого историка были наивны и отличались умеренностью. Такие погибали в первую очередь. О его смерти никто не узнал – он умер где-нибудь на больничной койке или в нетопленой комнате. Он был интеллигентом, а для рвущихся наверх тридцатилетних самым презрительным словом стало «интеллигент». Мы услыхали его еще в Харькове от живчиков, стремившихся со своими заявками в Москву…
Из Харькова мы выехали в Киев, вероятно, в самом начале марта. Еще стояли морозы и путался старый и новый стиль. Ехали мы в так называемом «штабном» вагоне, куда продавали билеты командировочным высокой марки. Нам их выдали по блату писательских организаций, тогда еще находившихся в зачатке, но уже проявлявших недюжинную ловкость. С нами в купе ехали, быть может, хозяйственники или работники партийного аппарата, во всяком случае люди нового типа. На них были целые и добротные сапоги и кожанки. Наши спутники не пили, не нюхали кокаин, чрезвычайно распространенный в первые годы революции, и почти не разговаривали ни с нами, ни между собой. Единственное, что они себе позволяли, – это пошучивать со мной. Я лежала на верхней полке, и все они казались мне телеграфистами, и двое, занимавших нижние полки, и те, кто к ним заходил из соседних купе. Меня же они принимали за барыньку. Как только Мандельштам выходил из купе, они вскакивали и говорили, что таких, как я, надо за косу, и советовали учиться писать на машинке. В этом-то и состояли их шутки. Меня они не смешили, и было странное чувство, что в этом штабном вагоне уже сгущается новый и непонятный мир. Они соскучились по женщинам на войне, а собственных секретарш еще не заполучили, потому и крутились передо мной. Мандельштам с любопытством присматривался к ним. Он сразу заметил, что они не разговаривают и только время от времени цитируют статью или газету. «Им не о чем говорить», – сказал он и пробовал догадаться, кто они. Среди них могли быть организаторы всех отраслей хозяйства и административной жизни, включая органы порядка, но понять, кто чем занимается, мы не могли. Все они были выкроены на один образец.
С этим слоем мы почти никогда не сталкивались, и поэтому оба запомнили единственную встречу с типовыми организаторами новой жизни. Их бессловесность нас настораживала и пугала, потому что она появилась в результате особой дисциплины нового типа. Из таких людей создавался аппарат, победивший или презревший человеческие слабости и безукоризненно действующий по инструкциям независимо от их содержания.
Аппарат выдержал испытание временем и существует по нынешний день, хотя винтики неоднократно заменялись более усовершенствованными, а старые пропадали без вести, обернувшись лагерной или провинциальной пылью.
У нас была игра – входить в новый город. Мы входили в Москву, в Ростов, в Баку, в Батум и в Тифлис, а на обратном пути – в Новороссийск, в Ростов и в Харьков. Мы всю жизнь входили в другие города, и без Мандельштама я продолжала это занятие, но оно перестало быть игрой. В те ранние годы поезда иногда останавливались на вокзалах, но чаще их задерживали черт знает где. Тогда вещи взваливались на плечи, и мы вступали в город по проселочным дорогам или по шоссе и по улицам. Первая улица уже вызывала вздох облегчения. Иногда попадался извозчик или телега, но это было редкой удачей. Я вижу вокзальную площадь холодного Киева, но не помню, как мы добрались до родительского дома. Может, уже изредка ходили трамваи. Только слышу стук в дверь и как она открылась. Родители встретили нас, будто мы явились с того света. Уехать значило кануть в вечность. Ни одно письмо, ни одна весточка не дошли до них. Из Москвы, где жил мой брат, письма изредка доходили. К этому времени отъезд в Москву уже не отрывал уехавших от тех, кто остался на месте.
Киев оказался самым чужим городом, таким же иностранным, как Грузия. Украина обособлялась от русского языка с удвоенной силой, потому что, близкородственный, он всем понятен, как и украинский. Потом я нашла точный критерий, по которому научилась отличать украинцев от русских. Я спрашивала: где ваша столица – Киев или Москва?.. Всюду – по всей громадной территории страны слышны отзвуки южнорусской и украинской речи, но называют своей столицей Киев только настоящие, щирые украинцы с неповторимо широким «и» и с особой хитринкой. То, в чем Мандельштам слышал отзвук древнерусской речи, для них – родной, отдельный, резко отличный от русского язык. Для меня всегда было загадкой, почему этот волевой, энергичный, во многом жестокий народ, вольнолюбивый, музыкальный, своеобычный и дружный, не создал своей государственности, в то время как добрый, рассеянный на огромных пространствах, по-своему антисоциальный русский народ выработал невероятные и действенные формы государственности, всегда по сути своей одинаковые – от московской Руси до нынешнего дня. (Суть в полной оторванности правителей и народа, при которой одни делают что им вздумается, а другие терпят и слегка ворчат.) Нельзя объяснить это одним географическим положением Украины – между Польшей и Россией. Я привыкла верить Ключевскому, что разгром татарами Киевской Руси, развивавшейся как блистательное европейское государство с Мономахом и Ярославом Мудрым, с киевской Софией и дивным городом на высоком берегу Днепра, был горчайшим поворотным пунктом русской истории. Мандельштам об этом не думал. Он просто любил пестрый и живой город на Днепре, чтил Ключевского, читал «Завещание» и «Русскую правду» и никогда не перечитывал «Полтаву». Своих мыслей без него я не додумывала и так и осталась со своим удивлением. Но все же я рада, что моя столица не Киев, а Москва: ведь мой родной язык – русский. И если там и здесь будут открыто резать жидов, я предпочитаю, чтобы это случилось со мной в Москве. В московской толпе обязательно найдется сердобольная баба, которая попробует остановить погромщиков привычным и ласковым матом: эту не троньте, так вас и так, сукины дети. Под российский мат и умирать-то приятнее.