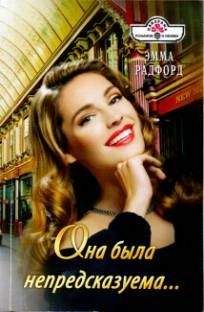Майк О'Махоуни - Сергей Эйзенштейн
В 1923 году Луначарский выступил с призывом вернуть на сцены театров пьесы Александра Островского, драматурга XIX века, знаменитого сатирой на московское купеческое сословие. Приуроченное к столетию со дня рождения писателя, обращение Луначарского к театральным режиссерам имело своей целью воскресить традиции русской классической литературы в условиях послереволюционного искусства. Мейерхольд не замедлил откликнуться на призыв и поставил комедию «Доходное место» – спектакль, по сравнению с его прошлыми работами, довольно заурядный. Тогда же он начал работать над более экспериментальной постановкой «Леса», премьера которой состоялась в следующем году[40]. Таиров, в свою очередь, включил в репертуар Камерного театра «Грозу», а Станиславский поставил «Горячее сердце» на сцене Московского Художественного театра.
Эйзенштейн, зная о планах Мейерхольда, также обратился к Островскому. Его постановка «Мудреца» определенно стала самой радикальной интерпретацией произведения последнего на московской сцене и едва ли отвечала ожиданиям Луначарского. Продолжая начатые с Мейерхольдом, Фореггером и ФЭКСом эксперименты, Эйзенштейн представил зрителю карнавальную буффонаду с цирковыми фокусами, трюками, песнями, клоунадой и диковинными декорациями: круглую сцену обрамлял полосатый задник, а над головами зрителей был натянут эквилибристический канат. Сергей Третьяков, поэт и драматург-футурист, полностью переписал текст пьесы и превратил действующих лиц Островского в клоунов, акробатов и персонажей, в которых явно узнавалась карикатура на современных политических деятелей. Как и в «Мексиканце», цирковые элементы служили инструментом для расстановки сюжетных акцентов и одновременно способствовали выражению политической пробольшевистской идеи.
В оригинальной пьесе Островский высмеивает высокомерие и напыщенность господ, которых главный герой, Глумов, ложью и лестью легко обводит вокруг пальца. Эйзенштейн перенес место действия в Париж, населенный русскими эмигрантами, бежавшими с родины во время революции. Одного из персонажей, которого сыграл его друг и будущий соавтор Григорий Александров, он сделал нэпманом – эксплуататором времен заново введенной рыночной экономики. Таким образом, коррупция предстала как пережиток царской эпохи, ушедшей безвозвратно, и одновременно в облике заново возникшей угрозы. Главный трюк постановки – проход Александрова по канату над головами зрителей – метафорически обыгрывал шаткое и сомнительное положение бывшей российской буржуазии за рубежом, а сам канат, словно тонкой, но все еще существующей нитью, связывал Москву и Париж, прошлое и настоящее, продажность и честность. Что примечательно, в группу представителей этого упадочного класса Эйзенштейн включил священника, раввина и муллу, подчинившись государственному курсу на антирелигиозную пропаганду, инструментом которой, в том числе, должен был служить театр.
«Мудрец» вызвал бурную реакцию критиков. Многие сочли, что пьеса перенасыщена аллюзиями и поэтому крайне сложна для восприятия большинства зрителей. И хотя многим спектакль нравился, его политический посыл оставался сокрыт слишком глубоко, чтобы произвести на публику должный эффект. В этом отношении авторы постановки выразили молчаливое согласие с критиками: перед спектаклем на сцену стал выходить Третьяков и разъяснять аудитории смысл и содержание пьесы, а в программу включили подробное описание сюжета[41].
Сцена из спек такля «На всякого мудреца довольно простоты», Театр Пролеткульта, Моск ва, 1923
Хотя «Мудрец» стал знаковым явлением раннего советского театра, особое значение – по крайней мере в рамках биографии Эйзенштейна – имеет тот факт, что во время его постановки режиссер впервые взял в руки кинокамеру. Он включил в спектакль несколько киновставок (их показывали на заднике сцены), а заканчивалось действие пятиминутным киноэпилогом, который впоследствии получил название «Дневник Глумова». Очевидно, вдохновленный опытами Козинцева и Трауберга в «Женитьбе», Эйзенштейн использовал кинопроекции еще и для того, чтобы акцентировать ключевую для спектакля эстетику цирка – в конце концов, изначально фильмы у российского зрителя ассоциировались с ярмарочными площадями и мюзик-холлами. Дневник Глумова в виде киновставки крайне удачно обыгрывал авторский замысел Островского: в своих записях Глумов откровенно высказывал свое истинное отношение к главным персонажам на контрасте с лестью и обманом, которыми кормил их в лицо. Сделав из дневника фильм, Эйзенштейн играл на общепринятом представлении о кинематографе как о правдивом отражении советской реальности. Для усиления эффекта документальности он снял и смонтировал эту киновставку наподобие популярных дореволюционных хроник студий «Пате» и «Гомон»; в то же время в них чувствовался язвительный укол в адрес недавно запущенного киножурнала «Киноправда» Дзиги Вертова[42].
Контраст между правдой и вымыслом в «Дневнике Глумова» Эйзенштейн намеренно подчеркнул намеками на голливудские приключенческие фильмы. Например, в нем фигурирует вор в маске и фраке (образ, разработанный в ранних лентах Гарри Пиля и еще более развитый в сериале о Фантомасе, столь популярном в дореволюционной России). Персонаж забирается на шпиль высотного здания, спрыгивает с него и, благодаря ловкому монтажу, приземляется на сиденье проезжающего автомобиля, который отвозит его к тому самому театру, где шел «Мудрец». Спустя несколько секунд после того, как Глумов на экране входит в здание театра, настоящий актер-Глумов запрыгивает на сцену с катушкой пленки, выполняющей роль его дневника. Таким образом театральное и кинематографическое действие, документальность и драматургия схлестываются друг с другом, заставляя зрителя гадать, что истина, а что игра. Эту двойственность Эйзенштейн дополнительно подчеркнул, монтируя «Дневник Глумова» с помощью наплывов. Глумов демонстрировал свой талант к перевоплощению, кувыркаясь перед каждым из главных героев, превращаясь затем в объект их желания: пушку перед одним, осла перед другим, милого ребенка перед третьим. Эйзенштейн добавил в пьесу и политический мотив, выразив желание одного из персонажей в виде свастики – символа света, за которым уже тогда закрепилась стойкая ассоциация с набиравшей популярность Национал-социалистической немецкой рабочей партией Гитлера.
«Дневник Глумова» (кадр из киноотрывка «На всяк ого мудреца довольно простоты», Театр Пролеткульта, Москва, 1923)