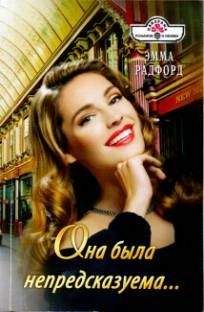Майк О'Махоуни - Сергей Эйзенштейн
По стечению обстоятельств или вследствие удачных знакомств, в столице карьера Эйзенштейна начала стремительно набирать обороты. Уже через несколько недель он познакомился с Валентином Смышляевым и, несмотря на скудный опыт, получил должность художника-декоратора в Театре Пролеткульта. Хотя классовое происхождение Эйзенштейна время от времени вызывало вопросы, его обретающее форму революционное видение театра было весьма созвучно новаторскому подходу этой организации. В течение следующих пяти лет он оттачивал свое мастерство под эгидой Пролеткульта и участвовал в таких знаковых и нашумевших постановках, как «Мексиканец» (1921), «На всякого мудреца довольно простоты» – позже известной как «Мудрец» (1923), «Слышишь, Москва?!» (1923) и «Противогазы» (1924).
В конце 1920 года Смышляев совместно с писателем Борисом Арватовым начал работу над спектаклем революционной тематики для Театра Пролеткульта. За основу пьесы был взят рассказ Джека Лондона «Мексиканец», написанный в 1911 году. Многие его приключенческие произведения были переведены на русский язык и на заре советской эпохи пользовались огромной популярностью. По всей вероятности, большевикам импонировал главный герой американского писателя – обделенный судьбой персонаж, который отважно борется с угнетением и превозмогает все невзгоды благодаря твердой воле и выносливости. Социалистические взгляды Лондона, определенно, находили отклик у читателя. Закончив работу над пьесой, Смышляев получил одобрение Театра Пролеткульта и приступил к постановке, поручив Эйзенштейну и Никитину оформление сцены и дизайн костюмов. Это назначение оказалось для Эйзенштейна крайне своевременным. Вскоре после начала работы над постановкой его исключили из Академии Генерального штаба, поскольку он больше не числился в армии, и, оставшись без стипендии и пайка, он нуждался в том скромном заработке, который мог ему предложить Пролеткульт. Освободившись от всех остальных обязанностей, Эйзенштейн полностью посвятил себя театру.
«Мексиканец» оказался как нельзя более подходящим для агит-сцены Пролеткульта произведением. Оно повествует о подвиге Фелипе Риверы, худосочного, но стойкого юноши, который начинает участвовать в боксерских соревнованиях, чтобы поддержать мексиканскую партию революционеров накануне свержения коррумпированного президента Порфирио Диаса в 1910 году. Ривере, чья фигура олицетворяет угнетенный класс мексиканских рабочих, предстоит сразиться с опытным и могучим американским боксером Дэнни Уордом. Предсказуемым образом Ривера побеждает чемпиона и зарабатывает достаточно денег, чтобы купить оружие для будущего мятежа революционеров. Сюжетно инсценировка Смышляева и Арватова весьма походила на типичные агит-пьесы того времени. Тема бокса как революционной деятельности также отвечала реалиям первых лет советской власти: этот вид борьбы пришел в Россию в конце XIX века и особенно большую популярность обрел среди рабочих. Так, в 1918 году, в разгар Гражданской войны, в Москве прошло несколько крупных соревнований по боксу, собравших огромные толпы зрителей[34]. Для многих бокс представлял собой квинтэссенцию пролетарского спорта, не в последнюю очередь потому, что соревнования обычно проходили в мюзик-холлах, цирках и на ярмарках – местах, обычных для мероприятий пролетариата. В 1920 году, однако, бокс начал вызывать протест у тех, кто видел в нем эксплуатацию бойцов рабочего класса на забаву богачам. В этом отношении «Мексиканец» был злободневным, даже провокационным спектаклем. Вклад Эйзенштейна в постановку придал ей дополнительной остроты.
Для Смышляева, ученика Станиславского, главная ценность «Мексиканца» заключалась в психологическом портрете Риверы, молодого молчаливого боксера, которого Джек Лондон описывал так: «Он сама революция, ее дух, ее пламя… Он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести»[35]. Ривера, таким образом, превратился в символ героя-рабочего, движущей силы Октябрьской революции. Тон рассказа достаточно мрачен, поэтому эскизы костюмов, которые подготовили Эйзенштейн и Никитин, вероятно, стали для Смышляева неожиданностью. К примеру, для секундантов чемпиона и Риверы, в образах которых воплотилось капиталистическое угнетение, они предложили яркие клетчатые и полосатые костюмы, похожие на наряды цирковых клоунов. В костюме одного преобладали квадраты, другого – круги, и каждый актер носил маску соответствующей геометрической формы. Наряды других персонажей отличались не меньшей экстравагантностью – например, на репортерах были костюмы, расшитые газетными заголовками, и огромные красные клоунские носы. Оформление сцены, также состоявшее из абстрактных геометрических фигур, было явно выполнено в духе кубистских декораций Камерного театра Александра Таирова.
Вне всякого сомнения, в цирковых мотивах первой крупной постановки Эйзенштейна отразилось его детское увлечение клоунадой и массовыми развлечениями. Тем не менее, его карикатурное видение персонажей и декораций в начале 1920-х годов едва ли можно было назвать из ряда вон выходящим. Культура нового режима с готовностью принимала в себя цирковые элементы, надеясь привлечь внимание массовой аудитории. О роли цирка в ранней советской культуре можно судить хотя бы по тому факту, что в торжественном параде по случаю первой годовщины Октябрьской революции участвовало недавно сформированное Интернациональное объединение артистов цирка[36]. В те годы многие советские театральные режиссеры проявляли интерес к цирковой эстетике. К примеру, в 1919 году в постановке по пьесе «Первый винокур» (1886) Льва Толстого в Эрмитажном театре в Петрограде Юрий Анненков задействовал клоунов и акробатов, а Сергей Радлов нанял профессиональных цирковых артистов, в том числе жонглеров и воздушных гимнастов, для участия в спектаклях его Театра народной комедии. В этом культурном контексте следует рассматривать и цирковые эксперименты Эйзенштейна.
Тем не менее, он отнюдь не во всем следовал за общей тенденцией. Эйзенштейну приписывают авторство самого неординарного решения в спектакле – а именно то, каким образом была выполнена постановка драки между Риверой и Уордом в третьем акте. По изначальному замыслу Смышляева, бой предполагался за сценой, а на самой сцене должны были находиться актеры-болельщики. Вместо этого Эйзенштейн настоял на том, чтобы на сцене возвели настоящий ринг и актеры дрались по-настоящему. Позже он подчеркивал, что ему важна была «реальная борьба, физическое падение тела, фактическая одышка от усилий, блеск реально вспотевшего торса и незабываемое щелканье звука удара перчаток по напряженным мышцам и коже»[37]. Нарочитый контраст между искусственностью цирковых костюмов и декораций и жесткой реалистичностью акцентировал метафорическое значение боя как поворотной точки сюжета и как метафоры большевистского переворота. Вместе с тем, подобное сценическое решение поднимало вопросы о месте бокса в жизни современного общества и о роли зрителя в постановке. Поскольку чаще всего матчи проходили в мюзик-холлах и на цирковых аренах, в данном случае место проведения боя оказалось как нельзя более подходящим. Однако здесь роль болельщиков выполняли как актеры, так и сами зрители, становясь таким образом единым целым. Превращение зрителей в болельщиков на условно настоящем боксерском матче вывело на передний план двойственную сущность этого вида борьбы – популярного среди пролетариата спорта и одновременно символа капиталистического угнетения. Расположить ринг там, где хотел Эйзенштейн, не позволила пожарная служба, но он, не растерявшись, решил сместить его под сцену, еще ближе к аудитории, разграничив таким образом два рода действа в рамках одного спектакля.