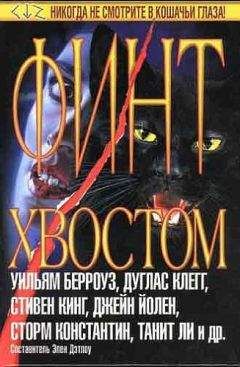Николай Павлюченков - Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект
Теодицея ставится по отношению к первому моменту («таинству» антроподицеи) как бы в служебное положение: «оправдание» Бога необходимо, чтобы человечество смогло воспринять спасительное самоуничижение Божие. И если то по преимуществу «таинство», то это по преимуществу учение, «догма»; если первый момент религии выражает схождение Бога к человеку, то второй момент есть «созерцательное восхождение человечества до Бога»[126]. Оба момента тесно взаимосвязаны и не могут быть изолированы один от другого. В 1914 г., поясняя термины «теодицея» и «антроподицея», по сути точно так же как и в студенческом докладе 1906 г., о. Павел особо остановился на их неустранимом совмещении в религиозной жизни. «Всякое движение в области религии, – говорил он, – антиномически сочетает путь восхождения с путем нисхождения. Убеждаясь в правде Божией, мы тем самым открываем сердце свое для схождения в него благодати. И наоборот, отверзая сердце навстречу благодати, мы осветляем свое сознание и яснее видим правду Божию. Как нельзя разделить полюсов магнита, так нельзя обособить и путей религии»[127]. Однако возможно их «методическое» разделение, которое, по мысли о. Павла, предопределяется еще и тем, что оба пути для своего исследования требуют различной духовной подготовки. Теодицея избирается Флоренским как первый этап «научения», соответствующий новоначальному духовному подвигу, в то время как «более трудная» антроподицея оставляется «до лет более зрелых и опытности более испытанной»[128].
Во всем этом нам важно, однако, увидеть единство замысла обоих трудов – теодицеи и антроподицеи – вплоть до первоначального намерения представить их как две части одной книги – «Столп и утверждение Истины». Они оба должны были быть единым сочинением, рассматривающим концепцию символа, как писал Флоренский Белому в 1904 г. и как он подчеркнул в воспоминаниях 1916–1920 гг.: «Всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме символа»[129]. Исследование вопроса «оправдания» человека должно было исходить из уже проведенного исследования вопроса «оправдания» Бога, должно было базироваться на нем, развиваясь в соответствии с принципом: «Писать можно [только] о том, что пережито».
Возможно ли при этом отвержение того, что было пережито ранее, на «новоначальном» этапе, и соответственно возможен ли радикальный пересмотр в антроподицее тех концепций, которые были построены на первом этапе «научения»? Это вопрос соотношения «раннего» и «позднего» творчества Флоренского, когда он, как кажется, оставляет развитую в «Столпе» тему Софии и переходит (главным образом на рубеже 1917–1918 гг.) к своей «конкретной метафизике». Характерный для нее «символический принцип двуединства духовного и чувственного, – как пишет С. С. Хоружий, – упраздняет целый ряд софиологических понятий и структур, включая главнейшие из них: любовь и саму Софию». Если в «Столпе», т. е. в теодицее, любовь как онтологическая категория была той силой, которой устанавливается и держится всеединство, то в символической реальности антроподицеи «всеединство – символ, который устанавливается и держится в совершенном бытии сам собой, а в падшем – исцеляющей, освящающей силой культа, так что любовь более не нужна в онтологии; с нею последняя теряет и свой личностный характер, и духовный мир не лицетворится уже в единую совершенную личность»[130], т. е. Софию. В целом с этим можно согласиться, но с одним, очень важным для антропологического аспекта наследия Флоренского уточнением: онтология у о. Павла лишь на определенный, «ранний» период творчества до некоторой степени становится «личностной».
Но и в учении о Софии, как увидим далее, «персонализм» Флоренского далеко не однозначен, даже на идеальном онтологическом уровне; в «Столпе» вовсе не София, как идеальная Личность твари, является основой всей онтологии. В качестве таковой у «раннего» Флоренского выступает Любовь – Божественная Сущность[131], которая объединяет как Три Божественные Ипостаси, так и идеальные тварные личности, и она же является условием жизни и единства самой Софии. Результат поиска Абсолютной Истины, осуществленного в «Столпе», оказался совсем не «персоналистическим»: Истина – это «Отношение Трех», «отношение-субстанция», каковой и является Любовь[132]. Многократно подчеркивая абсолютную важность в онтологии идеи единосущия, «ранний» Флоренский фактически заменяет «Бога-Вседержителя» высшей реальностью, если можно так сказать, «Любви-Вседержительницы». Но в системе «Столпа» в этом нет ничего удивительного и странного, поскольку здесь о. Павел настаивает на том, что Бог есть Любовь по Самой Своей Сущности.
«Водораздел» между «ранним» и «поздним» Флоренским проходит через его обращение к категории энергии. «Начало это, – пишет С. Хоружий, – становится для конкретной метафизики тем, чем для софиологии о. Павла была София: рычагом решения ключевых тем о Боге и мире»[133]. С этим обращением Хоружий связывает переход на новый этап всей «русской метафизики всеединства» и толчком к нему полагает «церковный конфликт по поводу имяславческого движения 1911–1914 гг.»[134]. Для самого о. Павла следует указать период приблизительно начала 1913 г., когда в ходе своего знакомства и переписки с главой афонских имяславцев – иеромонахом Антонием (Булатовичем) – он «открывает» для себя учение свт. Григория Паламы и решения Церковных Соборов XIV в. о Божественной Сущности и Божественных энергиях[135]. Осуждение имяславия Посланием Святейшего Синода от 18 мая 1913 г. было расценено им как наступление «духовного позитивизма» на церковное мировоззрение, а само «имяборчество» – как «удар и попытку разрушить понятие символа»[136]. Поэтому само обогащение символа энергетическими концепциями, равно как и вся последующая разработка вопросов антроподицеи у о. Павла, имели отчетливо выраженную полемическую направленность.
Игумен Андроник (Трубачев) также фактически признает, что новый этап в творчестве о. Павла проходил под влиянием имяславческой полемики 1911–1914 гг. Однако он более обращает внимание на события в личной жизни Флоренского. По его указанию «перелом в личной жизни и духовном устроении и поворот в творчестве о. Павла внесли таинства брака (1910) и священства (1911)». Процесс отхода от теодицеи совпал с «мучительными и духовно непросветленными» 1908–1910 гг.[137], после которых брак и священство «явились теми семенами, из которых творчество о. Павла смогло расти в новом направлении – направлении антроподицеи». Игумен Андроник употребляет даже такое выражение, что Флоренскому «внутренне стал чужд дух «Столпа», дух теодицеи»[138], и ссылается на письмо о. Павла В. А. Кожевникову от 2 марта 1912 г., в котором есть такие строки: «Мой «Столп» до такой степени опротивел мне, что я часто думаю про себя: да не есть ли выпускание его в свет – акт нахальства… И, быть может, с духовной точки зрения, он весь окажется гнилым»[139].
К этому можно было бы добавить и свидетельство письма Флоренского к С. Н. Булгакову от 14 декабря 1912 г., где обсуждаются некоторые сложности, возникшие при подготовке к изданию «Столпа» в полном варианте[140]. «Я потратил на технику книги, – пишет о. Павел, – и, главным образом, на примечания столько сил и времени, что теперь мне этот вопрос стал болезненным». Но это не от обиды, «а просто усталости и едва ли не брезгливости к собственной книге (курсив мой. – Н. П.)»[141].
Представляется несомненным, что «Столп» и теодицея в какой-то момент стали осознаваться о. Павлом пройденным этапом жизни. Но «пройденный» не означает «зачеркнутый». Между письмами Кожевникову (март 1912 г.) и Булгакову (декабрь 1912 г.) со свидетельствами внутреннего отчуждения о. Павла от своего «Столпа» находится также уже упоминавшееся письмо Кожевникову, написанное в июле 1912 г., где «Столп» хотя и признается в некотором смысле несовершенным, все же оказывается органично включенным в этапы духовного развития его автора. Отмеченные здесь несовершенства сводятся прежде всего к неполноте: «Столп» – это «теодицея (только!), и все иные темы из него сознательно исключены. Поэтому же и «лирика»[142] «Столпа» опять не то, чего вы хотите, – нечто хрупкое и интимно-личное, уединенное (курсив мой. – Н. П.)». Это «свирель», «жалоба покинутого» («Потому-то, – пишет о. Павел в скобках, – и возникает проблема Теодицеи»), в противоположность будущей «драме», второй половине «матесис», второй части «Столпа» (по первоначальному замыслу), т. е. антроподицеи[143].