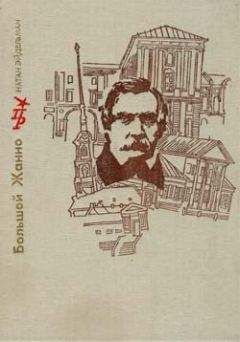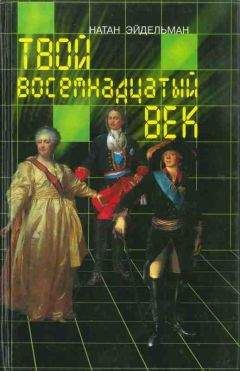Натан Эйдельман - Апостол Сергей: Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле
— Начали бар вешать и ссылать на каторги: жаль, что всех не перевесили, да хоть бы одного кнутом отодрали и с нами поравняли. Да долго ль, коротко, им не миновать этого.
— В городе говорят, что преступники до такой степени хорошо содержались в крепости, что, когда жена Рылеева прощалась с мужем, Рылеев, подавая апельсин, будто бы сказал: «Отнеси это дочери и скажи ей, что, по милости царя, из крепости отец ей с благословением может еще послать и сей подарок».
Половина шестого. «Скамьи поставлены на доски, осужденные встащены на скамьи, на них надеты петли, а колпаки стянуты на лица».
Несколько свидетелей замечает, что Пестелю и его товарищам неприятны прикосновения палачей.
«Когда все было готово, с нажатием пружины в эшафоте, помост, на котором они стояли на скамейках, упал».
Мысловский (запись Лорера): «Когда под несчастными отняли скамейки, он упал ниц, прокричав им: „Прощаю и разрешаю“».
«Разрешает» (отпускает) грехи; то есть разрешает умереть.
Смерть вторая
«Упал ниц, прокричав им: „Прощаю и разрешаю“. И более ничего не мог видеть, потому что очнулся тогда уже, когда его уводили.
Говорят, сорвался Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев».
Восемь декабристов — Якушкин, Лорер, Розен, Штейнгель, А. М. Муравьев, Цебриков, Трубецкой, Басаргин — видят происходящее с помощью одного и того же Мысловского. В тот же день, 13 июля, расспросят, запомнят. Но как по-разному они видят!
«Сошедши по ступеням с помоста, Мысловский обернулся и с ужасом увидел висевших Бестужева и Пестеля и троих, которые оборвались и упали на помост… Неудача казни произошла оттого, что за полчаса перед тем шел небольшой дождь, веревки намокли, палач не притянул довольно петлю и когда он опустил доску, на которой стояли осужденные, то веревки соскользнули с их шеи».
Другие называют иные имена и подробности…
Отчего это расхождение? Может, оттого, что декабристы составляли свои воспоминания много лет спустя? Но они не могли забыть 13 июля и, хотя позже жили вместе на каторге и обменивались воспоминаниями, единой версии так и не создали…
Очевидец… Видит очами. Но как быть, если смотреть невозможно?
Для одних — двое сорвавшихся, для других — трое; то ли зарябило в глазах — три упавших или, наоборот, два-три… То ли один сорвался чуть позже; как понять, кто упал? Кто знает их в лицо, лица изменены, перед последним мигом закрыты капюшоном, зрители в состоянии шока…
Трое лежат на земле, ушиблись. Двое — в петле.
«Они, — напишет один из друзей, — может быть, умирали в медленных страданиях целые тысячелетние минуты».
Четвертое промедление.
«Сергей Муравьев жестоко разбился; он переломал ногу и мог только выговорить: „Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!“ Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова».
Якушкин, к которому протоиерей относился с особенным уважением (с таким же, пожалуй, как к Сергею Муравьеву-Апостолу), — Якушкин, как видно из его записок, сам точно, досконально выспрашивал. Мысловский в тот вечер зайдет еще ко многим в камеры, но, конечно, не каждому станет описывать события, иные получали подробности уже из третьих, четвертых рук. Однако Якушкин, с которым священник позже много лет будет переписываться, выяснил, что мог, а Мысловский рассказал, что видел, слышал или что померещилось в бессознательном кошмаре…
«Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас по умеют!»
Эти слова останутся в памяти, будут повторены во множестве нелегальных изданий, они дойдут к родственникам, к друзьям; последние слова Сергея Ивановича, если они действительно были произнесены. Ошеломленные свидетели слышат одного говорящего — на этом все сходятся. Но кто он, произносящий последнее слово?
«Каховский ругал беспощадно…»
«Бранился Рылеев».
«…Из трех сорвавшихся поднялся на ноги весь окровавленный Рылеев и, обратившись к Кутузову, сказал:
„Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях.
Когда же неистовый голос Кутузова:
— Вешайте их скорей снова! — возмутил спокойный предсмертный дух Рылеева, этот свободный необузданный дух передового заговорщика вспыхнул прежнею неукротимостью и вылился в следующем ответе:
— Подлый опричник тирана! Дай же палачу свои аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз“».
Соскользнувшая петля, видно, задела и подняла капюшоны, возвращая навсегда исчезнувшее утро, людей, дым костров. Невозможно представить психическое состояние трех людей. Без сомнения, что-то говорили, кричали, может быть, бранились, и никакие рассуждения о том, что могли и чего не могли они сказать, не имеют значения; все могли — ничего не могли: молчать, выругаться по-русски, «в России порядочно повесить не умеют», «подлый опричник». Дурново вообще не отметил в дневнике каких-либо слов, произнесенных погибающими, он спешил в гости.
Голенищев-Кутузов не передал ничего Николаю о последних восклицаниях — его дело исполнить казнь. Подробности, если надо, сообщит Чернышев.
Беркопф решительно уверял собеседника, что «выдумкой являются слова, приписываемые Пестелю, когда порвались веревки с петлями: „Вот как плохо русское государство, что не умеет приготовить и порядочных веревок“». Однако Беркопфу было не до жиру — четвертая пауза может стоить ему карьеры и свободы.
Слова о неумении «порядочно повесить» он мог считать личным оскорблением — это он, Беркопф, не умеет!..
Больше никто не видел сам, по толпа, которую держит на расстоянии цепь часовых, тоже имеет голос. Конечно, они не слышат, что говорят сорвавшиеся, через час начнут расспрашивать и узнают правду вперемешку с таким вымыслом, что ни им, ни нам не разобраться…
Обер-полицмейстер Княжнин: «Бестужев-Рюмин когда услышал приказ, чтобы его вторично повесили, то громко сказал: „Нигде в мире, только в России два раза в течение жизни карают смертью“».
Точно о таком возгласе говорит и декабрист Нарышкин. Но при этом сообщает столь необыкновенную подробность (неизвестно от кого узнанную), что кажется, это и есть правда.
«Бенкендорф, видя, что принимаются вешать этих несчастных, которых случай, казалось, должен был освободить, воскликнул: „Во всякой другой стране…“ — и оборвал на полуслове».
Бенкендорф сидел на лошади и смотрел на «жалких» с презрением и грустью. Поскольку он не командовал и не распоряжался, как Чернышев, Голенищев-Кутузов, то многим из ссылаемых в каторжные работы показался симпатичным, даже сочувствующим.