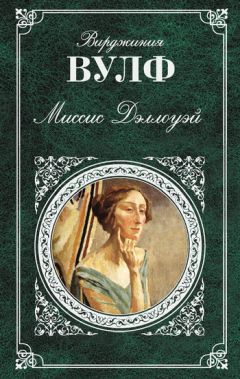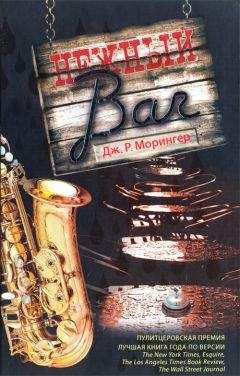Вирджиния Вулф - Дневник писательницы
Четверг, 9 апреля
Вот и наступил период депрессии после чересчур напряженной работы. Вчера последняя партия ушла к Кларку в Брайтон. Л. читает. Я настроена пессимистически, предвижу прохладное заключение; но надо ждать. В любом случае, дни стоят отвратительные, мучительные, бессильные; их было бы хорошо сжечь на костре. Ужас в том, что завтра, после одного ветреного дня передышки — ох, холодный северный ветер не затихает с момента, как мы приехали, но у меня нет ушей, глаз, носа; я только и делаю, что хожу туда-сюда, как правило, в отчаянии — после этого одного дня передышки, повторяю, я должна начать сначала и прочитать 600 страниц бесстрастных гранок. За что, ну за что? Больше никогда, больше никогда. Сначала полностью покончу с этим, а уж потом возьмусь за «Две гинеи» и одновременно стану заниматься Роджером. Если серьезно, то думаю, это мой последний «роман». Но тогда придется всерьез заняться критикой.
Четверг, 11 июня
Лишь сейчас, через два месяца, я в состоянии сделать эту краткую запись, чтобы сказать — позади осталась двухмесячная ужасная, хуже, почти катастрофическая болезнь — еще никогда я не была так близка к обрыву после 1913 года — и вот я опять победила. Мне надо переписать, то есть вставить или убрать отдельные слова, почистить «Годы» в гранках. А я не могу. Работаю от силы час. Но какое блаженство вновь стать хозяйкой своего рассудка! Вчера вернулись из Родмелла (Монкс-хаус). Теперь собираюсь жить как кошка, наступившая на яйца, пока не прочитаю все 600 страниц. Думаю, у меня получится — думаю, получится — мне лишь нужно побольше храбрости и бодрости, чтобы не сбиться с пути. Как я уже сказала, я в первый раз пишу по доброй воле после 9 апреля, когда слегла в постель; ездила в Корнуолл — об этом ни слова; потом вернулась; виделась с Элли; потом в Монкс-хаус; вчера домой на двухнедельное испытание. Кровь бросилась мне в голову. Сегодня утром писала 1880 год.
Воскресенье, 21 июня
После недели ужасных мучений — утренних пыток — я не преувеличиваю — боль в голове — ощущение абсолютного отчаяния и провала — в голове, как в носу после сенной лихорадки — опять прохладное тихое утро, облегчение, передышка, надежда. Только что написала о Робсоне; думаю, неплохо. Живу стесненно, подавленно; не могу делать записи о своей жизни. Все спланировано, никого чужого. На полчаса я спускаюсь; потом иду наверх, в отчаянии; ложусь; гуляю по Площади; возвращаюсь и делаю еще десять строчек. Вчера была в палате лордов. Вечное чувство, что надо подавлять себя, держать под контролем. Вижу людей, которые лежат на диване между чаем и обедом. Роза М., Элизабет Боуэн, Несса. Вчера вечером сидела на Площади. Смотрела на шумящие зеленые листья. Гром и молния. Фиолетовое небо. Н. и А. спорят 4/8 времени. Мимо крадутся кошки. Л. обедает с Томом и Беллой. Очень странное, на редкость замечательное лето. Новые эмоции: покорность; бескорыстная радость; литературное отчаяние. Я учусь моему искусству в самых неприятных условиях. Читаю письма Флобера, слышу свой крик: о искусство! Терпение: пусть оно утешает, увещевает. Я должна спокойно и уверенно формировать свою книгу. Она не выйдет до будущего года. И мне кажется, я использовала не все возможности. Стараюсь одной фразой дать четкий портрет персонажа; укоротить и ужать сцены; заключить все в определенную среду.
Вторник, 23 июня
Хороший день — плохой день — так и идет. Немногих писательство мучает, как меня. Флобера, наверное, мучило. И все же я поняла, как сделать книгу. Думаю, смогу закончить, если у меня хватит храбрости и терпения спокойно прочитать все сцены; соединить их; думаю, может получиться хорошо. А потом — ох, когда я закончу ее!
Сегодня не очень ясно, потому что я была у дантиста, а потом делала покупки. Мой мозг похож на весы: небольшой перевес, и чаша идет вниз. Вчера обе чаши висели ровно, а сегодня одна внизу.
Пятница, 30 октября
Я вовсе не собираюсь перечислять все, что произошло за минувшие месяцы. Не хочу по причинам, которые теперь не могу открыть, анализировать прошедшее необычное лето. Полезнее и здоровее для меня сочинять сцены; надо взять ручку и описать реальные события; кстати, это хорошая практика для моего неловкого и неуверенного пера. Могу ли я еще «писать»? Вот в чем вопрос. И теперь я постараюсь понять, мой дар умер или просто спит.
Вторник, 3 ноября
Чудеса еще случаются — Л. в самом деле понравились «Годы»! Он считает пока — до ветреной сцены, — что эта книга не хуже любой другой из моих книг. Я запишу реальные факты. В воскресенье начала читать гранки. Когда дочитала до конца первой части, впала в отчаяние; оцепенелое тяжелое отчаяние. Вчера заставила себя дочитать до Наших Времен. Когда дошла до этой вехи, то сказала: «К счастью, это так плохо, что не о чем говорить. Я должна отнести гранки, как дохлую кошку, Л. и сказать ему, чтобы он сжег их, не читая». Так я и сделала. У меня словно груз с плеч. Это правда. Я почувствовала вдруг, что свободна от жуткой тяжести. Стоял холодный, сухой, сумеречный день, и я отправилась через кладбище, где могила дочери Кромвеля, через Грейс-Инн по Холборн-стрит и вернулась домой. Я больше не была Вирджинией, гением, но была совершенно довольной — как это назвать — духом? телом? И очень усталой. Очень старой. Но в то же время довольной, что разделила эти 100 лет с Леонардом. Итак, мы были несколько скованы за ланчем; печальное одобрение; и я сказала Л., напишу Ричмонду и попрошу книги на рецензию. Гранки будут стоить, скорее всего, где-то между 200 и 300 фунтами, которые я заплачу из своего кармана. Поскольку у меня еще есть 700 фунтов, останется четыреста. Это не очень приятно. Но Л. сказал, что я, по его мнению, не права насчет книги. Потом приехали незнакомые люди: мистер Мамфорд с волосами цвета красного дерева, худой, с очень тяжелым баулом и тростью, которого я проводила курить в гостиную; мистер — очень большой и тучный, который сказал: «Прошу прощения», — и постучал в дверь. Лорд и леди Сесил позвонили и пригласили нас на ланч, на который также приглашен испанский посол. (Я берусь за «Три гинеи».) После чая мы отправились на книжную выставку «Санди таймс». Книг там было много! Я чуть не умерла — бесконечно устала! Подошла мисс Уайт, энергичная маленькая женщина с веселым деревянным лицом, и стала рассказывать о своей книге и откликах на нее. Потом Урсула Стрэчи покинула Даквортов и тоже подошла к нам: «Вы меня помните?» И я вспомнила залитую лунным светом реку. Потом Роджер Сенхаус тронул меня за плечо. Мы пошли домой, и Л. читал, читал и ничего не говорил: я совсем расстроилась; однако подумала, что можно написать «Годы» совсем иначе, — придумала план для другой книги — ее надо сделать от первого лица. Подойдет ли это для книги о Роджере? — и я опять впала в ужасное состояние, когда голова горит огнем и нестерпимо хочется спать, словно кровь не поступает в голову. Неожиданно Л. отложил гранки и сказал, что, по его мнению, это невероятно хорошо — так же хорошо, как все остальное. Теперь он читает дальше, а я, устав от писания, собираюсь читать итальянскую книгу.