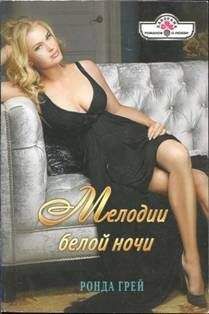Светлана Коваленко - Анна Ахматова
В «Энума элиш» Ахматовой возникает пародийная схема: наверху – власть, под лестницей живут по поставленным над ними законам уцелевшие потомки бывших «веселых» богов и по—прежнему суетятся, в меру сил и возможностей обслуживая верховное божество, контролирующее ситуацию по телефону (голос с грузинским акцентом). А между этими жерновами власти и ее верноподданнейших слуг – писателей, деятелей искусства – героиня трагедии, сомнамбулически бормочущая лирические стихи о любви, разлуках и «невстречах», о природе и красоте Божьего мира. Подобно одному из своих двойников, Жанне д'Арк, она слышит потусторонние голоса и вступает в разговор с ними, сгорает на костре и воскресает из пепла, как Феникс умирает и вновь возрождается, чтобы из глубины пещеры, из тюрьмы, с костра и плахи заявить о праве человека любить, ждать, быть счастливым.
Картины «Энума элиш» завершаются ударами природного грома и громом сдвигающегося «железного занавеса». Удары грома сопровождали в вавилонском эпосе рождение тверди, железный же занавес, атрибут театрального реквизита, отсылает в ахматовском тексте к Фултонской речи Черчилля, в которой британский премьер—министр обозначил начало холодной войны и опустившийся между двумя мирами «железный занавес».
Героиня трагедии – пророчица и сомнамбула – обитает в скалистых пещерах с летописцем ее дней Орлом и послушными ему воронами. Одновременно она двойник актрисы, живущей внизу, «под лестницей». Актриса со сцены читает стихи, сочиненные сомнамбулой, за что подвергается суду со смертельным исходом. Судят за то, что она знает тайну поэтического слова, видит Божий мир в его первозданной красоте и свежести. Она не может понять, за что и для чего ее поднимают ночью с постели и приводят в зал суда, где «самый толстый» и другой «без лица», но в фуражке с синим околышем ведут судебное разбирательство.
Годы восстановления «Энума элиш» совпали с работой над переводами из Рабиндраната Тагора. 27 мая 1964 года появляется дневниковая запись: «Смерть Неру. Особенно горестно после Тагора и приближения к буддизму, кот<орым> я живу в последнее время (джале – джулэ – джунда сваха брум. Алмазная дарани)» (Записные книжки Анны Ахматовой. С. 464).
Можно предположить, что оставшийся нераскрытым в «Прологе» образ «Последней Беды» (ненаписанный диалог «X. и Последняя Беда», обозначенный в «Плане») как—то связан с апокалипсическим сном Ахматовой и переведенным ею стихотворением Рабиндраната Тагора «Всеуничто—жение»:
Кругом царит последняя беда,
И все она заполнила рыданьем.
В кровавой туче молний борозда,
Гром больше замолчать не хочет,
На дальнем бреге ужасы пророчит
Безумец, что опять хохочет.
И царствует над нами навсегда
Последняя всемирная беда.
Разгулом смерти жизнь опьянена,
И в пользу жизни свой ты сделай выбор,
Пусть все отнимет у тебя она.
Их сопоставление обнаруживает общность мотивов: «Мой сон накануне превосходил всё, что в этом роде было со мной в жизни. Я видела планету Землю, какой она была через некоторое время (какое?) после ее окончательного уничтожения. Кажется, все бы отдала, чтобы забыть этот сон!» – запись от 31 августа 1964 года (Там же. С. 486).
Ахматова не раз возвращалась к сновидению и рассказывала Анатолию Найману: «Мой сон я видела в ночь на первое октября. После мировой катастрофы я, одна—одинешень—ка, стою на земле, на слякоти, на грязи, скольжу, не могу удержаться на ногах, почву размывает. И откуда—то сверху, расширяясь по мере приближенья и поэтому все более мне угрожая, низвергается поток, в который соединились все великие реки мира: Нил, Ганг, Волга, Миссисипи… Только этого не хватало» (Наймам А. Г. Рассказы об Анне Ахматовой. С. 11).
«Пролог, или Сон во сне», синтезируя в себе опыт мировой культурной традиции, в своей лирической части близок к ранним английским романтикам, в частности, к Колрид—жу, связан с балладами Эдгара По, которые в 1910–е годы переводил Брюсов, с «Цветами зла» Бодлера, книгой, прочитанной еще тринадцатилетней Аней Горенко, а также и с модернистской литературой середины XX века, прежде всего с Кафкой и Джойсом.
По словам Вяч. Вс. Иванова, в пьесе Ахматовой до Ионеско и Беккета «была предвосхищена и суть, и сценическая форма театра абсурда. Абсурд сбывшихся бредовых видений начинал (хотя и очень медленно и постепенно) рассеиваться, и тогда за реальностью осуществившегося в жизни фантастического сюжета проступила художественная новизна пьесы. За древневосточным названием и мистериальной ее формой Ахматова увидела и то новое, что роднило ее с рождавшимся у нас на глазах и до нас доходившим новым европейским театром» (Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 500).
Вернувшись в Москву на Ордынку, после четвертого инфаркта – «стодневного заключения» в больнице – уже за две недели до смерти, Ахматова записывает в рабочей тетради: «„Ь'аппёе demiere a Marienbad“ – оказался убийцей моего „Пролога“. Это и плохо, и хорошо. Читаю его с болью в сердце.
Боже мой! там тоже театр. Кто поверит, что я писала «Сон во сне», не зная эту книгу.
И откуда эти зловещие совпадения? Попрошу найти «Пролог» в недрах моих чемоданов и сравню с французом» (Записные книжки Анны Ахматовой. С. 711).
На следующий день Ахматова продолжает размышлять о мучившем ее совпадении: «…Зато у француза (Alain Robbe—Grillet) – нет эпохи – это могло случиться когда угодно. <…> Она вялая, безличная, в общем никакая. Сцена viol'a < изнасилование> – совершенно необязательная, а то, что он при этом затыкает ей рот тряпкой, просто гнусно. Конец разочаровывает. А у меня вовсе нет конца – а запрещение спектакля и железный занавес» (Там же. С. 712).
И последняя запись, в санатории Домодедово за два дня до смерти: «Большой пустой дом, чем—то напоминающий „Раппёе demiere a Marienbad“». В «Прозе о поэме» и в дневниковых записях Ахматовой психологии художественного творчества, его «тайне» отведено значительное место. В творческом процессе она отдавала главенствующую роль иррациональному началу, утверждая, что стихи «снятся» или их кто—то диктует поэту. На бумагу чаще всего ложились уже готовые стихи. Рукописи чаще не доделывались или перерабатывались, но восстанавливались по памяти, являя собой не варианты, а скорее вариации на тему.
После дантовского вечера, где Ахматова выступала 19 октября, она записывает: «Неужели в этом „дантовском“ году „Пролог“ не пришел ко мне? Неужели „Сон во сне“ не приснился!» (Рабочие тетради Анны Ахматовой. С. 114).
«Пролог» является произведением незавершенным. В этом вопросе не может быть сомнений. Вместе с тем незавершенность «Пролога», как и некоторых других произведений – либретто, автобиографической прозы и др., – имеет в художественном мире Ахматовой особый характер, выявляя своеобразную «эстетику незавершенности». Творческий процесс обретает свойства потока сознания, из которого усилием творческой личности вычленялись фрагменты – картины, сцены либретто, кадры кино, «листки из дневника», жанровые картинки – с тем, чтобы на новом уровне возникло новое качество художественного целого.