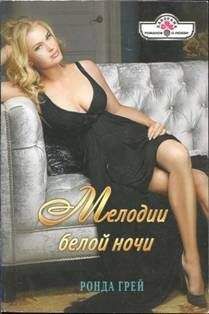Светлана Коваленко - Анна Ахматова
Кедр возник в системе образов—символов Ахматовой одновременно – в последней (четвертой) редакции «Поэмы без героя» и в набросках к неосуществленному киносценарию «О летчиках». Возможно, с «тайной» кедра связаны какие—то оставшиеся неизвестными разговоры с кем—то, на садовой скамейке Дома творчества писателей в Комарове, под любимым Ахматовой «заповедным» кедром (так он назван в одном из списков поэмы):
Здесь под музыку дивного мэтра,
Ленинградского дикого ветра,
И в тени заповедного кедра
Вижу танец придворных костей.
Введя «заповедный кедр» в поэму, в соседстве с «пляской костей», Ахматова делает ироническую запись в рабочей тетради: «Под кедром. Хороший эпиграф, например, к „Решке“, и главное – русский. Все поймут!» (Там же. С. 112). Через короткое время – новая запись: «„Заповедный кедр“, подошедший взглянуть – что происходит, из гулких и страшных глубин моей поэмы» (Там же. С. 108).
Кедр – библейское дерево, эмблематический знак, на древних медалях изображен с фиалками у ствола. В фантасмагориях киносценария мертвый К., зарытый под кедром, приходит к жене в ее сновидениях с букетом полевых цветов, набранных на поляне, ставшей его могилой. Здесь возможны и биографические ассоциации. Ахматова рассказывала близким, что нашла место, где, по ее убеждению, зарыли Гумилёва и других, проходивших по «делу Таганцева». Она нарвала букет белых цветов, как считала, могильных, буйно росших на поляне, и привезла домой.
В убийце как бы материализуется, обретая вполне респектабельное лицо, тот, кто был «без лица и названья» в «Поэме без героя», затем выступивший в «Прологе» как «некто в голубой фуражке», и, наконец, вполне реальный «штабной подполковник», внешне похожий на «лучшего из наших сыновей». С ходом времени, под воздействием нового социума, убийца совершает преступление. Ситуация как бы «опрокидывается» на стихотворные строки: «Здесь девушки прекраснейшие спорят / За честь достаться в жены палачам…» и строфу, несколько раз встречающуюся в автобиографической прозе: «И отнять у них невозможно / То, что в руки они берут…» Используя ложь и клевету, строя мнимое благополучие «на крови», романтизированный в «Поэме без героя» инфернальный персонаж утрачивает свою исключительность и психологически уже не интересен. По—видимому, это открытие стало концом работы над сценарием «О летчиках», заявленная линия «слепой матери», не признавшей в «заместителе» сына, осталась неразвитой.
Идея создания театрализованной версии «Поэмы без героя», как можно судить, была особенно дорога Ахматовой. Она мечтала о произведении особого жанра, на стыке различных видов и форм искусства – поэзии и прозы, музыки, пения и танца, – идущего от традиции театров 1910–х годов и одновременно новаторского, при главенствующей роли Слова.
О связи с театром Серебряного века есть напоминание в «Поэме без героя»:
Видишь, там, за вьюгой крупчатой
Мейерхольдовы арапчата
Затевают опять возню…
«Мейерхольдовы арапчата» у Ахматовой играют в снежки и показывают через окно ночной город Питер.
В театрализованную редакцию поэмы Ахматова предполагала ввести, кроме сольных голосов и хора, театральных дивертисментов, также и приемы кинематографа. И, как видим сегодня, прорывалась к театру будущего, продолжая работать и добиваясь новых неожиданных эффектов. Представления Анны Ахматовой о возможностях сценического искусства, как можно полагать, совпадали с неосуществленными планами Федора Шаляпина о создании своего театра. Он вспоминал, что они с Д'Аннунцио в Милане в 1911 году мечтали о пьесе, в которой были бы гармонично объединены и драма, и музыка, и пение, и диалог.
Ахматова конечно же понимала, что, даже будь завершена работа над «Трагическим балетом», или «Трагической симфонией», как она называла «Триптих», никто из ее современников не возьмется за их сценическую реализацию. Опережая время, она приближалась к искусству сегодняшнего дня, предвосхищая театр Мориса Бежара, поиски Владимира Васильева, размышляющего над постановкой такого «синтетического» произведения на сцене Большого театра.
Зрительность, предметность образа в поэзии Ахматовой, ее художническая склонность к театрализации внешнего мира отмечались критикой. Связь жизни с театром – одна из примет стилистики Серебряного века. Вспомним блоков—ское «Я в дольний мир вошла, как в ложу…». Уже в первой ахматовской поэме «У самого моря» как бы возникает театр под открытым небом:
Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне…
Отсюда, расположившись «на плоском камне», лирическая героиня поэмы, пятнадцатилетняя своенравная девочка вглядывается в мир, различая на горизонте миражи будущего. В одном из фрагментов либретто балета «Тринадцатый год» Ахматова замечает: «Ольга из ложи смотрит кусочек моего балета».
В задуманную Ахматовой на склоне лет театрализованную версию «Поэмы без героя», по замыслу, вовлечены исторические события эпохальной значимости, природные и космические силы, божественные и инфернальные. В незавершенной «Седьмой элегии», сопровождавшей работу над «Поэмой без героя», героиня смотрит на свою жизнь, как на некое кафкианское представление:
…Скамейка подсудимых
Была мне всем: больничной койкой
И театральной ложей.
Из—за строфы, как из—за театральной кулисы, выступает муза трагедии Мельпомена, изображаемая в венке из плюща и с трагической маской в руках. В одном из первых вариантов «крамольной» строфы из «Поэмы без героя», связанной с «Седьмой элегией», читаем:
После всех вступает «Седьмая»,
Озверелая и немая,
Рот ее сведен и открыт,
Словно рот трагической маски,
Но он черной закрашен краской
И могильной землей набит.
Здесь Ахматова предлагает еще один «ключ» к крипто—граммичности «Решки», объясняет причины мнимого молчания героини.
Трагическая маска перестает быть атрибутом театра, она как бы «прирастает» к лицу героини трагедии, превращая ее саму в трагедию. По поводу своего многолетнего молчания Ахматова записывает в рабочей тетради слова из надгробной речи Людовику XV епископа Сенезского Де Бове: «Народ не имеет права говорить, но, без сомнения, имеет право молчать!.. И тогда его молчание является уроком для королей!» (Там же).
Идея театрализации написанного переносится и на «Реквием», и на эпилог «Поэмы без героя».
В начале 1965 года в рабочих тетрадях появляется зарисовка или, как Ахматова говорила, «картинка» к «Реквиему»
(Там же. С. 112):