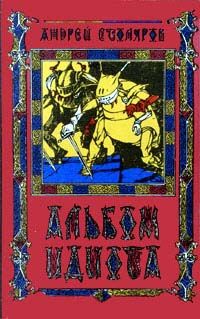Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
богачев: У нас в двадцатые годы в книге Форда не было этого слова и переводили описательно.
я: А помните, в космополитизм называли “поток”, “поточная линия”?
богачев: Верно, только подумать… Тьфу, в какой херовой стране живем! А сейчас на Камазе хвастают конвейером длиной в километр. Я там на многое насмотрелся. Пишу “Историю колеса”. Говорят, НТР, НТР, а куда больше НТР было, когда изобрели колесо. В природе нет вращательного движения. Это правда, что в доколумбовой Америке не было колеса? Не знаете, где об этом почитать?…Я прошлым летом впервые после войны был в Германии. Деревня на Балтике – ничего не узнать, после пожара все заново отстроились. Дома новые, люди новые, бургомистр новый. Я особенно не расспрашивал – так можно и на собственную дочь напороться. Мы в сорок пятом удивлялись, какие там девки хорошие. А это были эвакуированные из Берлина, от бомбежек, дочки богатых, которые могли откупиться от трудфронта. Нас сначала призывали к мести – это потом спохватились и дали отбой. Мы жуть что творили. Бывало, встречаемся и спрашиваем: – Ты сегодня сколько раз отомстил? – Я разъезжал на красном мотоцикле… Теперь у них в деревне что-то вроде уголка боевой славы. Собрались там – вдруг заявляется старый бургомистр, девяносто три года, – сразу меня узнал: – Герр лойтнант! – и мотоцикл мой вспомнил: – Русские люди – хорошие люди. Сначала они убивали много немцев, потом передумали и стали делать совсем много немцев. – Бондарев ерунду написал про любовь советского офицера и немки. Таких чувств тогда и быть не могло. Надо бы описать, как на самом деле было, пока не забылось…
Полдник. Вдвоем за чаем.
слуцкий: Вы когда не работаете, что читаете?
я: Сейчас Аксенова.
слуцкий: Рассказы у него дивные.
я: Говорят, у него хороший неопубликованный роман.
слуцкий: Не читал. У него в столе большое количество рукописей. Последние годы его печатают худо.
я: Если по-вашему, по-марксистски, количество перейдет в качество, и рукописи взорвут столы – не у одного Аксенова. Что тогда будет?
слуцкий: К чести советской литературы, у нас почти все произведения пишутся для печатания.
я: А ведь печатать опасно? Во-первых, самоцензура. Во-вторых, сколько стихотворений вы пишете в год?
слуцкий: Последнее время много. Четыре тысячи строк.
я: А сколько печатают?
слуцкий: Предлагаю полторы тысячи, берут семьсот.
я: То-то и оно: ведь берут третий сорт.
слуцкий: Ну, второй.
я: Вряд ли. По вашим собственным меркам, у вас нет середины, только первый сорт и третий. Да и тот для печати – вы портите.
слуцкий: Я никогда не переделывал своих стихов!
я: А “Вы не были в районной бане”? “Там четвертак любой билет”. Такой цены нет, было точно: “Там два рубля любой билет”. А “Покуда над стихами плачут”? “Она, как Польша, не згинела”?
слуцкий: Это напечатано в издательстве “Правда” тиражом в сто тысяч.
я: Но в каком виде? А “Шел фильм и билетерши плакали… И парни девушек не лапали”? И название “Броненосец Потемкин”?
Месть последовала наутро.
Обычно я завтракаю поздно, один. слуцкий меня дождался. Его развлекал грушин:
– Из порядка 116 стран, дающих регулярную статистику в ООН, Советский Союз по уровню жизни не входит в первые пятьдесят. А известно вам, что у нас 58 процентов городского населения ни разу не было в театре?
слуцкий: А какой процент никогда не был в опере?
грушин: Такой статистики нет.
слуцкий: Я никогда не был в опере. В двадцать втором году Назым на митинге в Москве предложил превратить Большой театр в элеватор. (Мне.) По-вашему, это глупо?
я: Глупо.
слуцкий: Назым был очень умный человек.
я: Знаю. Разговаривал.
слуцкий: Сколько раз?
я: Мне хватило.
слуцкий: А вы не допускаете, что он мог не брать вас в расчет как собеседника?
я: Допускаю. Он был хам с манерами.
грушин: Вы высказываете весьма странные мысли.
слуцкий: Назым был долгое время негласным главой компартии Турции и всего Ближнего Востока.
я: Какое это имеет отношение к уму? Или таланту?
слуцкий: У сорокамиллионного народа обязательно должен быть свой великий поэт!
я: Не обязательно Хикмет. Пастернак говорил, что бывает модернизм худшей воды, вроде Хикмета или Элюара – сплошная пустота.
слуцкий: Пастернака́ за границей знают только за прозу, а стихи Хикмета и Элюара знает весь мир.
я: Элюара знают. Сейчас и Пастернака знают. А Хикмета – нет.
слуцкий: Это ваше личное суждение.
я: Личное суждение по журналам и антологиям.
грушин: Кто, по-вашему, может судить о стихах?
я: Тот, кто в них понимает.
грушин: Но это ничтожно малая группа, которой статистически можно пренебречь.
слуцкий: Если в этом зале о Назыме скажу я, мне поверят, а если скажете вы, вам не поверят.
1976–80
республиканский членкор
Ленин и Чернищевский – люди двух эпох. Если би Ленин жил в эпоху Чернищевского, он бил би Чернищевским. Если би Чернищевский жил в эпоху Ленина, он бил би Лениным. У них общая гражданственность, бесстрашие, нравственность.
Мой отец, человек огромных способностей, готовился в раввины. Он бил би видающийся раввин России. Но Чернищевский научил его атеизму. Он на Чернищевского Богу молился. На столе у него всегда стояла карточка Чернищевского.
Я бил щестилетний негодяй. Я игрался и уронил карточку. Рамка распалась, стекло тоже сломалось. Чернищевский, так сказать, повержен. И я даже не подумал поднять. И тут входит отец. Он мухи не мог обидеть – а тут он хотел меня побить. Но он не знал, как это делается. Меня всегда била мама. И он схватил щетку для пола и стал тикать ей стенку – он не знал, как бить детей.
Недаром Ленин так любил Чернищевского.
1979
австрийский коммунист
– Почему вы узнали, что это австрийский значок? Совершенно верно, красное-белое-красное. Я почетный член австрийской компартии.
Австрия это обыкновенная европейская страна. Как Швейцария. Половина классической музыки происходит из Австрии? Никогда об этом не думал. Да, там в каждой деревне играют на цитре.
Но родился я на Украине. В Николаеве. Моя мать была настоящая русская интеллигентка. Это теперь сказали бы, что еврейка. А в Австрии меня выгнали из школы как русского. В первую войну.
Я все знаю про Гёте, про его личную жизнь. Я четыре года слушал о нем в Венском университете. “Поэзия и правда” это неправильный перевод. Это “Вымысел и правда”. Гёте понимал, что не станет всегда писать правду.
Он не хотел писать про свою жену Кристиану Вульпиус. Она пришла к нему просить за брата – ее брат написал что-то не то – и так и осталась. Она жила с Гёте много лет невенчанная. При французах один мародер ворвался в дом Гёте, приставил к нему штык и потребовал деньги. Кристиане Вульпиус это не понравилось, и она выбросила этого француза из дома. Гёте был ей так благодарен, что сразу пошел с ней в церковь и обвенчался.
Вы знаете, что Шиллер был страшным обывателем? Он не здоровался с Кристианой Вульпиус. Потому что она была низкого происхождения. Когда он со своей аристократической женой Каролиной фон Вольцоген приходил к Гёте, Кристиана Вульпиус подавала на стол и уходила на кухню. А теперь Шиллер считается революционер, а Гёте нет.
Гёте написал много баллад, стихотворений – они много значили для своего времени. Теперь они никому не нужны. Для меня Гёте это первая часть “Фауста”.
Я был здоровенный малый. Прошел всю Европу пешком с рюкзаком и палаткой. И Северную Африку. Югославия это такая дикость, что хуже Африки. В Боснии в деревне одни женщины и ребятишки. Мужчины все уже поубивали друг друга. Кровная месть. И Словакия. Ну, Чехия это уже культура. У меня был географический паспорт – во все страны, кроме Советского Союза.