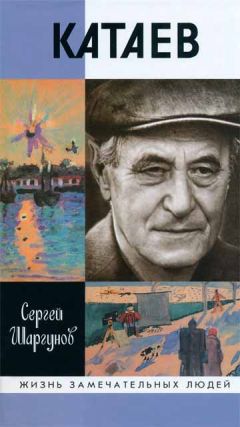Сергей Шаргунов - Катаев. "Погоня за вечной весной"
Тесть Евгения Петрова Леонтий Исидорович Грюнзайд погиб в 1938-м на Колыме.
Троюродные братья Катаева архиепископ Пахомий (Черниговский) и архиепископ Аверкий (Волынский) погибли с разницей в 16 дней в ноябре 1937-го — первому сделали смертельную инъекцию в тюремной клинике НКВД в Котельниче, второго расстреляли в Уфе. Оба причислены к лику святых Русской православной церковью за границей.
В августе 1937-го была арестована Надежда Николаевна, двоюродная сестра писателя, медсестра на Ленинградском заводе им. МОПРа. По семейному преданию, уехавший в Финляндию сын Анатолий прислал ей письмо, и это привело к роковой развязке. В октябре Надежду расстреляли.
Катаев общался с ней, уже поселившись в Москве: «На белые ночи мы вероятно поедем к моей двоюродной сестре в Питер», — сообщал он в одном из писем 1920-х годов.
У родни сохранилась горькая память, что он не смог ее спасти.
Но как? Что от него зависело?
В 1937-м в том же Ленинграде арестовали поэта и переводчика Валентина Стенича. Анна Ахматова со слов вдовы Стенича Любови Давыдовны рассказывала, что за арестованного хлопотали Зощенко и Катаев. Стенич был расстрелян в 1938-м. Не зная о его гибели, Зощенко в 1940-м отправил письмо в НКВД с просьбой пересмотреть дело. Приписку сделал и Катаев: «Присоединяюсь к отзыву Михаила Михайловича Зощенко о писателе-переводчике Валентине Осиповиче Стениче (Сметаниче), которого я знаю тоже с 1927 года. Считаю нужным просить о пересмотре дела».
(А в 1939-м Катаев в числе тринадцати писателей ходатайствовал перед НКВД о пересмотре дела поэта Николая Заболоцкого.)
До сих пор исследователи не приходят к ясному пониманию, что означал этот новый этап в истории — массы людей, как правило, преданных партии и вождю, в безумном экстазе с визгом и стоном топили друг друга в крови… Да, сигнал убивать шел сверху, а все же как быть с убойным энтузиазмом на местах?
«Как марксист я понимаю, что происшедшему были причины, — писал Валерий Кирпотин. — И что за все, что делалось, ответственность падает не только на Сталина. Его во всем поддерживали все коммунисты (и миллионы беспартийных), в том числе и я…»
Неужели термидор неизбежен, и те, кто сначала убивал «врагов», не могли не приняться за истребление недавних товарищей?
Или это было соперничество между людьми, неизбывное и ожесточенное при любом строе и в любом коллективе, заложенное в самой человеческой природе, которое на этот раз было подогрето государственной лицензией на насилие и обрело форму «доносов» и «чисток»?
Или перед страшной войной нужно было приучить к тому, что смерть внезапна и повсеместна?
Для заметного писателя вероятность получить пулю в те годы была, как для солдата на передовой.
Катаев уцелел. А стоило копнуть прошлое — и запросто в расход.
Но и неверно думать, будто сфабрикованные дела стали сюрпризом 1930-х годов. Ведь, напомню, по сообщению коллегии ОГЧК 1920 года, «заговор», в котором подозревали Катаева, затеяла «огромная контрреволюционная организация, в которой сплелись белополяки, белогвардейцы и петлюровцы» — хотя союз между ними являлся фантасмагорией.
А двоюродного брата Валентина Петровича Василия (родного брата Надежды) уничтожили еще в 1920-м.
Одним из первых фальшивых и показательно-резонансных процессов в СССР стало «дымовское дело» 1924 года. (Тогда чуть было не пострадал катаевский избавитель Яков Бельский, не вовремя вступившийся за председателя «комитета бедноты» села.) В селе Дымовка на Николаевщине убили уголовника Григория Малиновского. В прессе его объявили селькором-коммунистом, а убийство — политическим. Партийное и советское руководство Дымовки пошло под суд. Началась всесоюзная кампания негодования — статьи, стихи, пьесы… Сюжет гибели селькора сделался хрестоматийным. Общественным обвинителем на суде выступил близкий к Троцкому московский журналист Лев Сосновский. Троцкий же опубликовал в «Правде» статью «Каленым железом», объявив причиной убийства сращивание просталинского госаппарата («чиновника») с «кулаком». Статья была зачитана Сосновским на суде и благоговейно приобщена к делу, приговор огласили через три дня: часть подсудимых расстреляли, часть посадили. И только в 1969 году их реабилитировали, Малиновку переименовали обратно в Дымовку, музей лжегероя закрыли, памятник ему снесли…
Но мы в 1930-х…
В те же годы к одной из первых писательских дач в Переделкине подъехал черный «воронок». Вышли чекисты:
— А где Валентин Катаев?
В саду за самоваром сидели писатель Всеволод Иванов, его жена Тамара, драматург Александр Афиногенов с женой-американкой Дженни Мерлинг. Все переглянулись.
— Он здесь не живет, — сообщила Дженни (впоследствии рассказавшая эту историю Катаеву).
— Ищем его…
Чекисты укатили.
— А что… — после общей паузы будто бы сказала Тамара Владимировна. — Давно уже пора с ним разобраться!
Павел Катаев, поведавший мне эту байку, говорит, что разыскивали отца не для ареста, а чтобы привезти в «литературный салон», на вечеринку.
(В отличие от Бабеля он по возможности избегал посиделок с теми, кого автор «Конармии», нежно обобщая, именовал «милиционерами».)
29 августа 1936 года Кирпотин отчитывался в письме Ежову, Андрееву и Кагановичу о заседании Президиума Союза писателей, потребовавшего казни участников «троцкистко-зиновьевского центра»: «В. Инбер признала свое выступление на митинге плохим, сказала, что она является родственницей Троцкого и потому должна была особенно решительно выступить с требованием расстрела контрреволюционных убийц… Олеша принадлежал к числу тех писателей, которых спаивал троцкист-террорист Шмидт[106], подготовляющий покушение на тов. Ворошилова (со Шмидтом пили Бабель, Малышкин, Валентин Катаев, Никулин, Олеша)».
Пили и трепались… Чем не повод зачистить «южан»? Тем более «острого» сообщника Мандельштама, о котором Ежову уже докладывал Ставский…
В 1938-м Андреев писал Сталину о совместной работе, проведенной с Лаврентием Берией: «…в распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени материалы» на ряд писателей, включая Катаева.
Нельзя сказать, что Катаев отличался какой-то активностью. Перелопатив прессу 1930-х, могу сказать, что в отличие от многих он практически не высказывался о происходящем.
Нет, он смотрелся бледно на багровом фоне возбужденной общественности. Куда подевалось юношески-шальное: «за сто тысяч убью кого угодно»? Он, бравировавший цинизмом, оказался гораздо тише и скромнее многих, упиравших на совестливость и искренность и с готовностью звавших убивать.
Вчитываясь в документы эпохи, чувствуешь себя в средневековой сказке: на добрых тружеников напали злые вампиры, «нужна бдительность», теперь вокруг ходят укушенные, но «они маскируются», вечная слава серебряной пуле и осиновому колу…
15 июня 1937 года в связи с приговором по делу Тухачевского «Литературная газета» вышла под лозунгом «Нет пощады шпионам!». «Упорно и мрачно фашизм готовится к большой европейской войне. Главным объектом нападения он наметил Союз Советских Социалистических Республик, — говорилось в заявлении писателей, подписанном Толстым, Шолоховым, и (да!) — Катаевым. — НКВД и тов. Н. И. Ежов раскрыли центр шпионов и мерзавцев». «Смерть — единственно возможный приговор предателям», — утверждали на той же полосе писатели Ленинграда и в их числе Зощенко.
А вот стихи эпохи.
Владимир Луговской:
Душно стало. Дрогнули коленки,
Ничего не видно впереди?
К стенке подлецов! К последней стенке,
Пусть слова замрут у них в груди…
Михаил Исаковский:
За нашу кровь, за мерзость черных дел
Свое взяла и эта вражья свора:
Народ сказал: «Предателям — расстрел!»
И нет для них иного приговора.
Перец Маркиш:
Пусть, ядом напоив разбухнувшие почки,
Деревья и кусты ворвутся, как гроза,
В Верховный трибунал и всем поодиночке
Ветвями острыми вонзаются в глаза!
И даже Николай Заболоцкий в стихотворении «Предатели» славил «великую науку»:
Науку веровать в людей и, если это надо, —
Уменье заклеймить и уничтожить гада.
Как считается, подпись под «Нет пощады шпионам!» за Пастернака поставили, однако от подписи под самым первым писательским воззванием 21 августа 1936 года «Стереть с лица земли!» он уклониться не смог, а в январе 1937-го написал карандашом записку в Союз писателей по поводу резолюции «Если враг не сдается, его уничтожают!»: «Прошу присоединить мою подпись к подписям товарищей… Я отсутствовал по болезни, к словам же резолюции нечего добавить. Родина — старинное, детское, вечное слово, и родина в новом значении, родина новой мысли, новое слово, поднимаются в душе и в ней сливаются, как сольются они в истории, и все становится ясно, и ни о чем не хочется распространяться, но тем горячее и трудолюбивее работать над выражением правды, открытой и ненапыщенной, и как раз в этом качестве недоступной подделке маскирующейся братоубийственной лжи».