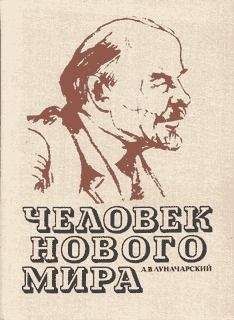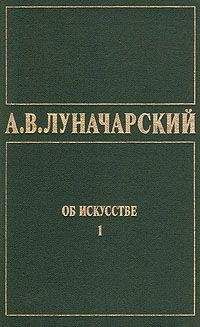Анатолий Луначарский - Воспоминания и впечатления
Юрию Михайловичу не так уж мало лет, но он необыкновенно сохранил свои силы5. Это тоже большое искусство, для этого нужно настоящее мастерство — уметь так много давать и все-таки не грабить себя. Поэтому мы ждем от него еще очень много новых достижений. Семья народных артистов нашей Республики пополнилась достойным сочленом.
<1927>
Из статьи «Станиславский, театр и революция»*
Это было в первые годы после революции. В Художественном театре была дана пьеса Щедрина «Смерть Пазухина». Публика восторженно аплодировала Москвину, Леонидову, всей талантливой постановке пьесы. Ко мне подошел пожилой рабочий, добрый коммунист, человек довольно высокой культурности, но вместе с тем, как это тогда нередко бывало, убежденный пролеткультовец.
Поглядывая на меня недоверчиво и в то же время злорадно ухмыляясь, он заявил:
— Провалился Художественный театр.
— Да что вы? — ответил я. — Разве вы не видите, какой успех?
— Это буржуазная публика аплодирует своему буржуазному театру, — ответил он уже с явным раздражением.
Я вступил с ним в ожесточенный спор.
Через несколько минут он, держа меня за рукав и с почти болезненной гримасой на своем суровом лице, говорил мне:
— Да и сам чувствую, что задевает, но я боюсь в себе этого, я в себе это осуждаю. Не должен такой театр нравиться хорошему пролетарию. Стоит только напустить к себе этого утонченного и старого мира, и начнется разложение в наших рядах!
Спор наш продолжался и дальше. Продолжался он не только с этим товарищем, а и с другими, мыслившими таким же образом. Еще во время юбилея Художественного театра некоторые товарищи с серьезной культурной подготовкой и тоже добрые коммунисты, уже не пролеткультовцы, конечно, весьма неодобрительно отзывались о моей тогдашней речи во время торжественного спектакля1, полагая, что с Художественным театром не следует идти ни на какое «оппортунистическое примирение».
IIЯ разговариваю со Станиславским. Как всегда, я с удовольствием смотрю на это спокойное, уверенное, ласковое, полное какого-то внутреннего света, освещаемое от времени до времени как бы смущенной улыбкой лицо, на всю фигуру этого человека, в которой так редкостно ярко отразилась его сущность. Ведь в самом деле, куда бы ни вошел Станиславский, в какое бы многолюдное собрание, допустим, в зал, где почти никто его не знает, он сейчас же обратит на себя общее внимание, и сейчас же начнутся вопросы, кто этот великолепный седой старик.
Вся наружность Станиславского построена по его собственному принципу — от внутреннего к внешнему. Станиславский наружно находится в глубочайшем соответствии с превосходным строением своего сознания, своей психики.
Я смотрю на него, когда он со своей чуть-чуть как будто смущенной улыбкой говорит мне знаменательную фразу: «Анатолий Васильевич, я же ни в каком случае не против революции. Я очень хорошо сознаю, что в ней много священного и глубокого. Я прекрасно чувствую, какие она несет с собой высокие идеи и напряженные чувства. Но чего мы боимся? Мы боимся, что эта музыка нового мира еще долго не найдет себе выражения в художественном слове, в художественной драматургии. По крайней мере до сих пор мы этого не видим, а если нам, театру, дадут несовершенный, косноязычный, сухой, искусственный материал, то, как бы ни был он публицистически согласован с высокими идеями революции, этими идеями мы театру не сможем дать должного звучания: мы не сможем как театр, как художники послужить революции, оказаться ее рупором, а сами себя, свое искусство мы снизим, потому что нельзя музыкантов, прошедших уже известную школу, достигших высокой музыкальной культуры, заставить играть школьные вещи, незрелые, лишенные жизни. Пушкин говорил про то, как может быть разыгран «Фрейшиц» перстами робких учениц2. Но, по-моему, это полгоря. А вот настоящее горе, если мастерам приходится играть не «Фрейшиц», а малограмотные попытки отразить крупнейшие жизненные явления».
Конечно, сказанной фразы никогда не передашь через десять лет с полной точностью. Но за полную точность содержания того, что мне было тогда сказано, и за большинство выражений, которые я сейчас привожу, я вполне ручаюсь.
И я почувствовал огромную искренность этого большого художника. Я почувствовал его растерянность: отвергнешь революционный репертуар — тогда еще действительно совсем детский, — и тебе скажут: куда же годится твой великолепный театр, твой замечательный инструмент, который ты с таким старанием построил, если после переворота, теперь, когда родился и начал развиваться новый мир, этот инструмент не может больше отвечать своему назначению и разве только, как старая, хотя бы хорошая, шарманка, может вертеть валики прошлого. Пойдешь на уступки, скажешь: давайте сюда то, что у вас написано, мы постараемся это сыграть, — что же выйдет? Фальшью прозвучит для всех несовершенный материал, и скорей всего в этой фальши обвинят именно театр. Скажут: старики, могикане отходящей культуры, не смогли, а может быть, еще хуже того, не захотели, чтобы новые идеи зазвучали. Те же — что здесь для Станиславского очень важно — старые друзья, люди высокоэстетических требований, люди большой художественной совести, скажут: да что же это сделалось с Художественным театром? Разве то, что он теперь делает, это искусство?
IIIВересаев читал нам свою пьесу3. Это тоже было уже давно. Пьеса была ни хороша, ни дурна, но, во всяком случае, написана с той степенью мастерства, которое является естественным для уже маститого писателя, для подлинного специалиста литературы. После чтения началась дискуссия. В ней выступил и Станиславский, и опять он, большой, даже монументальный со своей седой головой мудреца и со своей смущенной улыбкой, которая вовсе не соответствует внутренней робости или нерешительности, а которая является скорей выражением вежливости огромного человека в беседе с ближним, говорит:
— Что мне нравится в вашей пьесе, Викентий Викентьевич, это то, что она жива, это живые люди, это живая речь. Иной раз автор, исходя из очень хороших предпосылок, хочет доказать некое хорошее. У него в сознании бродят всякие важные идеи, из всего этого он составляет в конце концов такой лабораторный химический состав, такой какой-то апопонакс. Знаете, Викентий Викентьевич, есть духи, которые пахнут живыми цветами — сиренью, акацией. А есть вот такой апопонакс. Черт его знает, что это значит. Но я не люблю таких запахов.