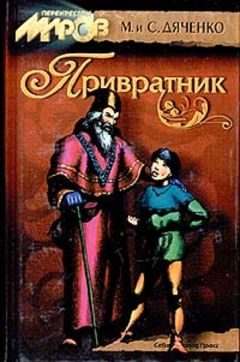Варлен Стронгин - Александр Керенский. Демократ во главе России
– Александр Федорович, я родилась в деревне, многие годы жила там. Поэтому и вошла в партию эсеров, работающую в основном для деревни и среди крестьян.
– Я – тоже, Екатерина Константиновна.
– Но… но, – вздохнула она, – я убедилась, что интеллигенция, живущая вне близкого соприкосновения с крестьянами, не вся, а некоторая, рассматривает их жизнь как подмостки своего грядущего величия, не знает их устойчивую психологию, устойчивую в требовании справедливого к себе отношения.
– Разве я что-нибудь сделал не так? Чем-нибудь обидел крестьян? – удивился Керенский.
– Ни в коем случае! – трепетно произнесла Брешковская. – Крепкие мужики за вас! За все ваши начинания! Но не они одни живут на селе. Терпение массы крестьянства на исходе. Каждый день замедления в развитии земельной реформы укрепляет их недоверие к Временному правительству, к росту подозрительности. Надо что-то делать!
– Что-то? – пожал плечами Керенский. – На это что-то требуется много времени и сил. Провести земельную реформу доверено Учредительному собранию. Осталось ждать недолго – до середины ноября.
– Дожить бы в здравии, – опять вздохнула Екатерина Константиновна.
– А куда мы денемся? Доживем! Вместе с большевиками. Хотя они топорщатся. Ставят палки в колеса. Бог их простит. Зато в своем манифесте обещали предоставить решение всех проблем Учредительному собранию. Не должны обмануть! – бодро вымолвил Керенский.
– Не должны, – нехотя согласилась Брешковская.
Керенский шел на встречу с нею в Москве, в начале июля восемнадцатого года, о чем она потом вспоминала: «Ходила я по Новинскому бульвару… к Архиерейским прудам (ныне называемых Патриаршими. – В. С.), где вблизи жил – так же нелегально, как и я, но с несравненно большим риском – Александр Федорович Керенский, приехавший в Москву по своему непременному желанию и выехавший оттуда за границу «по настоянию друзей и товарищей в том же июле 1918 года».
О чем они говорили в свою последнюю встречу на родине? Возможно, Екатерина Константиновна рассказывала ему о подробностях жизни другого своего кумира, не меньшего, чем Керенский, о Петре Алексеевиче Кропоткине, известном анархисте, о котором писала, что «труды его, проникнутые верой в человека и любовью к нему, не приемлет злая, уродливая и заразная сила, ибо не может вынести присутствия совести, не знавшей ни компромиссов ни уклонений, ни сомнений в правах каждого человека на жизнь свободную, честную».
При встрече с Керенским, Брешковская заметила:
– Петр Алексеевич перебрался в Дмитров, подальше от большевиков. Не пора ли и нам с вами убежать от них? Хотя я и бабушка, как вы меня обозвали, хотя мне уже стукнуло семьдесят пять, но у меня еще хватит прыти махнуть от них подальше, чем Петр Алексеевич, он уже старенький, дряхлый совсем. А мы? Бежать нам пора отсюда, пора, Александр Федорович!
– Почему бежать? Уезжать – можно и, наверное, необходимо, чтобы не оказаться в подвалах Лубянки, чтобы с пользой для людей дожить жизнь. Бежать и уезжать – большая разница. Уезжать можно с достоинством, с верой в лучшее, а бежать – в испуге, без оглядки – стыдно, тем более нам с вами, Екатерина Константиновна!
Они встретятся потом, уже в эмиграции, и в 1921 году Брешко-Брешковская напишет о нем в Париже: «В апреле семнадцатого года я проехала свой путь от Минусинска до Петрограда, где меня так дружелюбно и ласково встретил Александр Федорович Керенский, уже обремененный громадной ответственностью, но всегда, ровный, всегда справедливый, беспристрастный к недругам и к друзьям.
Живя в Сибири, я знала о его деятельности как присяжного поверенного, всегда летевшего на защиту попранных прав рабочего народа, в каком бы конце бесконечного и бесправного государства нашего не повторялись безобразия и жестокости, чинимые царской администрацией.
Следила за его речами в Думе с большим интересом, а когда он приезжал на Лену, чтобы разобраться в причинах расстрела двухсот рабочих на золотых приисках, и затем возвращался – он проездом навестил меня в Киренске. Виделись мы недолго, но дружба наша закрепилась навсегда. И я с благодарностью и гордостью вспоминаю его всегдашнюю обо мне заботу. В Петрограде он поселил меня в своей квартире, и мы вместе ожидали прибытия на родину то одного, то другого изгнанника, а между ними особенно тепло Петра Алексеевича Кропоткина, сорок лет не видавшего Россию, не перестававшего любить ее, всегда тянуться к ней, как к родной матери.
Керенский встречал лично всех возвращающихся борцов. В них он видел новые силы, готовые и впредь служить своему народу, готовые отдаться его возрождению так же искренно, бескорыстно, как сам это делал».
Несомненно, у Александра Федоровича Керенского было немало соратников, умных и добрых друзей, таких как Катерина Брешко-Брешковская, но, увы, не столько, чтобы повернуть громадную, разбитую войной и нуждой страну на путь свободы, создания цивилизованного общества, но указавшего путь к ней, пусть тяжелый и не сулящий только радости, порою даже опасный, но продиктованный сердцем, не равнодушным к судьбе родины.
И, видимо, не случайно, а символично, что об отъезде Керенского из большевистской России стало известно из воспоминаний бабушки русской революции Брешко-Брешковской: «У него были надежные провожатые в лице сербских офицеров, давших ему возможность благополучно добраться до английского флота на Ледовитом океане».
В Архангельске Александра Федоровича принял на свой борт английский крейсер с солдатами, которые собирались пойти на помощь восставшему против большевиков Ярославлю, но не пошли.
Отъезд Керенского был неофициальным и о нем английская пресса умолчала. В Лондоне помнили об отмене королем Георгом VI приезда в Англию Николая II и его семьи, неожиданной отмене, вызванной протестом общественности, и в данном случае вовсе не афишировали прибытие в Англию бывшего министра – председателя России, не желая резко ссориться с новой властью большой и стратегически важной страны.
Глава восемнадцатая
Лондон – Берлин – Париж
…Прибыв в Лондон и отдохнув несколько дней после морского пути, штормового и холодного, он вышел на улицу. Почувствовал себя неуютно, и не только потому, что был в чужом городе, а более потому что ощутил беспокойство, связанное со своим новым положением. В России его знали все, его показывали в кинематографе и часто – среди солдат, внимающих каждому его слову, у входа в Зимний, приветливо улыбающимся окружившим его людям, на фронте, в окопе… Здесь люди проходили мимо него, не удостоив взгляда. Он перешел на другую, солнечную сторону улицы, но зимнее солнце не грело. Никто не знал его в этом городе, никто не ждал, никто им не интересовался. Он приехал сюда, надеясь встретиться с Ольгой, с детьми, но еще в порту ему сказали, что их в городе нет, пока не прибыли, но препятствий для их жительства в Англии не будет. «Вы наш союзник, а ваша семья не будет обойдена вниманием», – твердил дипломатический чиновник, потом сказал, что его может принять господин Джордж Бьюкенен, если у него есть к нему вопросы. «Нет вопросов, все ясно, – вздохнул Керенский, – хотел бы кое-что спросить господина Черчилля». – «А это кто такой?» – спросил чиновник. «Разве вы не знаете? Странно, – недоуменно заметил Керенский. – Черчилль ведал поставками в Россию. Я хотел у него спросить, каким образом английские поставки оказались у людей, поднявших мятеж против правительства, которому предназначались». – «А вы уверены, что они ему предназначались? – удивился чиновник. – Наше министерство иностранных дел никогда не ошибается. Дела, касающиеся финансов, находятся под строгим контролем. Господин Черчилль несомненно делал то, что ему приказали». – «Понимаю», – грустно сказал Керенский и поблагодарил чиновника за четко организованную встречу.