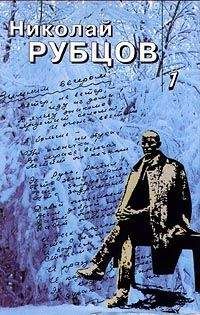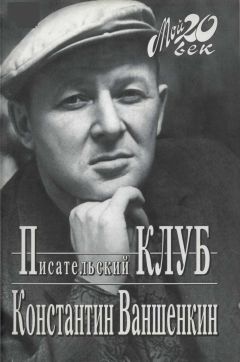Константин Ваншенкин - Писательский Клуб
Таковы «штрихи» к моему портрету Федора Абрамова. К портрету достаточно будничному — парадные надоели.
Да и это вряд ли стал бы писать, если б не отыскались среди моих бумаг два его коротких письма ко мне, которые захотелось привести, а заодно прокомментировать.
Итак, первое.
Константин,
просматривая «Литературку» за последние 3 недели (я только что вернулся из ГДР), я, между прочим, натолкнулся в одном из номеров на твою фотографию (где‑то на заднем плане, на перифери
истоишь) и вот что хочу сказать тебе: разуй голову! Что ты все прячешь ее в мануфактуру!
Нам, читателям твоим, хочется видеть поэтическое солнце, которое излучает такие дивные стихи.
Это — раз. А два… А два и нету. Передай привет милой Ирине (так, кажется? Я не ошибся?).
Ф. Абрамов.
23/V-77 г.
Вот такое послание, весьма решительное. Но о чем? О том, что я люблю носить кепку? «А два и нету». Но есть и «два». «Милая Ирина» — это Инна Гофф. Абрамов был с ней знаком, читал ее, но упорно называл Ириной. Однако все‑таки не вполне был уверен («я не ошибся?»).
А Инна прочитала где‑то, что у него была любимая бабушка Иринья, и этим оправдывала его оговорки.
И второе письмо. В 1980 году отмечалось семидесятилетие Твардовского. Был торжественный вечер в Зале им. Чайковского, среди прочих выступал там и я. А непосредственно в день рождения, двадцать первого июня, должно было состояться возложение цветов на могилу, — мне об этом сообщили заранее. Прежде, пока Новодевичье было открыто для посещений, я в этот день рано утром покупал на ближайшем рынке пять красных гладиолусов, приезжал и ставил их в одну из приготовленных банок с водой. Потом подходил еще к могилам Исаковского, Бернеса, Смелякова. Но когда кладбище сделали закрытым, я перестал навещать их, — не хотелось добиваться, доказывать, убеждать. (Теперь начал ездить снова.)
А тогда, купив гладиолусы, я поехал, уверенный, что встречу у ворот писательскую толпу. Но у входа было пустынно, и я решил, что все уже внутри ограды. До сих пор не знаю, чем объяснить, но, подойдя ближе, я увидел только тогдашнего председателя Литфонда СССР Алима Пшемаховича Кешокова и Федора Абрамова с толстым портфелем командированного в руке.
Утро было очень жарким, они стояли в тени и разговаривали. Я поздоровался и стал рядом, не принимая участия в их беседе.
Абрамов говорил о том, каким должен быть новый Дом творчества для писателей Ленинграда. Кешоков соглашался и обнаруживал знание предмета, что удивляло Федора. Затем Абрамов сообщил, как его ценит ленинградское высокое руководство. Кешоков разговаривал с ним очень вежливо и уважительно, но называл не Федором Александровичем, а наоборот, Александром Федоровичем, — как Керенского. Это бесило Абрамова, но он ни разу не поправил собеседника. Настроение у меня было скверное.
Приблизился сотрудник Литфонда, сказал, что никого уже, видимо, больше не будет, а родственники ждут давно. Мы пошли. Две корзины цветов стояли поблизости от могилы. Одну подняли Кешоков и Абрамов, — в другой руке у Федора был портфель. Вторую — я и нашедшийся поблизости молодой поэт. Обе дочери с мужьями и детьми стояли у могилы. Глаза Валентины были полны слез. Пока мы ставили корзину, она взяла у меня из руки мой букет.
Через несколько дней я получил письмо:
Уважаемый Константин Яковлевич!
Уже который день на душе свинарник. Отчего? Перебираю в памяти последние дни и — не обидел ли я Вас?
Bo-1–x, вдруг ни с того ни с сего начал тыкать. А во — вторых, по дороге к могиле Твардовского, сдается мне, я несколько небрежно и даже высокомерно разговаривал с Вами.
Если так, бога ради, простите.
Спасибо за статью в «Правде». Хорошо!
Марии Илларионовне, добавлю к этому, понравилось и Ваше выступление в Зале Чайковского, которое я, к сожалению, будучи на президиумовской Камчатке, не слышал.
Привет Вашей милой супруге.
Ф. Абрамов.
24. VI. 1980 г.
Что сказать? Осадок у него, конечно, остался — от того разговора с Кешоковым, от самих тем разговора. Что же касается «высокомерного» обращения ко мне, то тут каждый, знающий меня хоть немного, только улыбнется. Со мной это не пройдет: где сядешь, там и слезешь. Так что просить прощения было ему не за что.
Статья в «Правде» — это моя статья о Твардовском; она была напечатана в тот день, но тогда он ее еще не видел. Называлась она «Народность таланта».
После этого мы еще не раз виделись и говорили друг другу «ты», и я спрашивал:
— Кто же все‑таки лучше: Федор Абрамов или Федор Кузькин? — а Абрамов подыгрывал.
В Тарханы!
Я не раз уже обещал Ираклию Луарсабовичу Андроникову поехать на пушкинские торжества в Михайловское и, конечно, не собирался нарочно его обманывать. Но каждый год что‑нибудь мешало. И еще, по правде говоря, я побаивался этой поездки.
Прекрасно, что в день рождения поэта собираются из окрестных, да и из дальних мест тысячи и даже десятки тысяч людей. Неплохо, может быть, что среди них и современные стихотворцы. Но вот должны ли они демонстрировать публике собственную продукцию — в этом я не уверен.
Летом 1960 года мне предложили поехать в Тарханы. Конечным пунктом была Пенза, но с заездом в лермонтовские места. Я подумал о том, что ведь специально не выберешься, и согласился. Привлекала и возможность хоть отдаленно представить себе, как ездил к бабушке Михаил Юрьевич.
Дело в том, что организовала путешествие «Литературная газета», всерьез увлеченная тогда передвижным способом пропаганды. Редакционный микроавтобус «УАЗ» с красочной надписью на борту «Подписывайтесь на “Литературную газету”» можно было повстречать на многих дорогах Европейской части Союза. Возглавлял экспедиции «вечный» член редколлегии Георгий Гулиа. Он и пригласил меня поехать.
— Сперва в Белинский, в Чембар, — кричал он в телефон так, что я относил руку с трубкой далеко в сторону. — В шесть утра выезжаем, слушай, семьсот километров всего. За десять часов доедем. Шоссе, слушай, Москва — Куйбышев, водитель хороший, компания отличная…
Кроме него в составе экипажа были Булат Окуджава, заведовавший в газете отделом поэзии, тоже не новичок в таких операциях, и авторы Евгений Винокуров, Михаил Львов и я.
Выехали, разумеется, не в шесть, а позже, без обгона тянулись до Люберец, потом разогнались по живописной, с пригорка на пригорок, дороге. Солнце едва набирало силу, настроение было хорошее, то один, то другой что‑нибудь тихонечко напевал. В Рязани, о которой тогда много писалось, остановились ненадолго, перекусили в молочном кафе и покатили дальше.