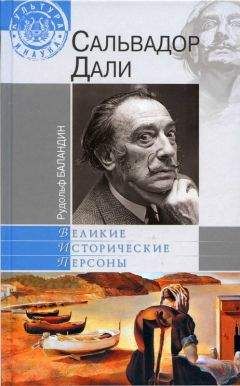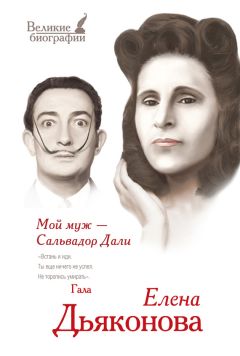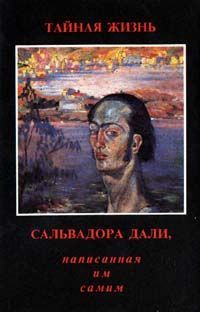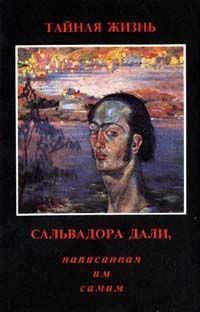Леонард Гендлин - Перебирая старые блокноты
Здесь, на Пушкинской Скамейке, Белла Ахмадулина прочла дивное стихотворение:
Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.
Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю — снова не получится
из этой встречи ничего.
Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости — из горести
так прямо голову держу.
Так в мою жизнь просто и бесхитростно вошла поэзия самобытного и очень большого поэта.
А потом было несколько встреч: у Лермонтова в Пятигорске, у Чехова в Ялте, у Пастернака в Переделкино, у Блока в Шахматове, у Паустовского в Тарусах…
Встреча с любимым шедевром вызывает всегда изумление и радость:
Там в море паруса плутали
и, непривычные жаре,
медлительно цвели платаны
и осыпались в декабре.
Смешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения бальзата
и снега яркие цвета.
Каждая строка разгорается, подобно тому, как с каждым днем сильнее бушуют осенним пламенем громады лесов за рекой.
У Поэта есть одна заветная тема. Она прикасается к ней целомудренно, благоговейно, страстно и нервно. Это Вечная Тема Любви.
Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжелая,
а ты не враг, ты просто враль
и вся игра твоя — дешевая.
На площади Манежной
бросал монету в снег.
Загадывал монетой,
люблю я или нет.
И шарфом ноги мне обматывал
там в Александровском саду,
и руки грел, а все обманывал,
все думал, что и я солгу.
Кружилось надо мной вранье,
похожее на воронье.
Но вот в последний раз прощаешься,
в глазах ни сине, ни черно.
О проживешь, не опечалишься,
а мне и вовсе ничего.
Но как же все напрасно,
но как же все нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.
Иногда кажется, что о любви в мировой литературе сказано все. Что можно сказать о любви после «Тристана и Изольды», «Сонетов» Петрарки и истории Манон Леско, после пушкинского «Для берегов отчизны дальней», лермонтовского «Не смейся над моей пророческой тоской», после Анны Карениной и чеховской «Дамы с собачкой», после Блока, Есенина, Ахматовой.
Но у любви имеется тысячи различных звуков и в каждом из них свой Свет, своя Печаль, свое Счастье, свое Благоухание.
У Поэта Беллы Ахмадулиной есть много тонких и превосходных стихов о любви, о ее трепетном ожидании, тоске и вечной юности. Она всегда и всюду благословляет Любовь.
Мысль и поэтический слог крепнут от времени, томят людей своими образами. Какая-то «неведомая» сила превращает ее стихи в органическое слияние Музыки и Мысли.
Настоящего Поэта читает Время. Каждый новый век читает его заново и по своему утверждает связь с поэтом. Так произошло с Шекспиром, Данте, Гете. Так произошло с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Фетом, Блоком. Так спустя десятилетия мы открыли для себя Гумилева, Клюева, Хлебникова, Цветаеву, Ахматову, Кузмина, Мандельштама, Пастернака.
Белла Ахмадулина родилась в Москве в том ненастном 1937 году. Она рано познала вой сирен и грохот бомбежек. Узнав людскую несправедливость, лживость и недобросовестность, Белла, став старше, в самых сложных ситуациях умела быть доброй, внимательной, отзывчивой. Чуткость — основная черта ее характера.
Девичья фамилия бабушки по материнской линии — Стопани. В Россию привез ее итальянский шарманщик. Родной брат бабушки Александр Митрофанович Стопани был профессиональным революционером. Очевидно, за «приверженность» к революции его расстреляли в 1932 году.
В Поэме «Моя родословная» Белла по известным причинам об этом умалчивает. Ахат — ее отец — тяжело переживал свое казанское сиротство.
В раннем детстве отдушиной для будущего Поэта стали сказки: Пушкин и Лермонтов, Андерсен и Гауф, Шарль Перро и братья Гримм. Сколько она их прочитала!
Белла Ахмадулина тоже подарила нам удивительную «Сказку о Дожде»:
Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шел за мной, как маленькая дочь.
Дождь, как крыло, прирос к моей спине.
Мир состоит из великого множества Красок и Света. И тот, кто легко умеет улавливать эти соединения — счастливейший человек, особенно, если он Поэт, Художник или Писатель.
Белла Ахмадулина с одинаковой зоркостью видит и лето, и пасмурную зиму, и скудные свинцовые дни поздней осени, и море, которое из-за далеких холмов вдруг глянуло своей темной громадной пустыней.
Пушкин любил осень — осень не обольщает, не увлекает человека, осень сосредоточенна, полна глубокой тоски, тихого замирания жизни. На вызов слабеющей жизни поэт отвечает нарастающим творчеством, бешено состязаясь с тоской и скукой и находя силу и упор в самом себе.
С роскошного юга в Михайловское поэтом привезены две начатые рукописи: «Цыганы» — поэма и «Евгений Онегин» — роман в стихах.
Тема «Цыган» — вечный конфликт, бесконечно решаемый в стихах, в романах, в спектаклях, в фильмах и, однако, не решенный и доселе…
Недолго, однако, упивался Алеко цыганской свободой, свободой общей, равной для всего рода. Он убивает свою любимую из ревности: она ведь осмелилась не признать над собой прав Алеко и полюбить другого.
Над Алеко от лица рода произнесен приговор стариком цыганом, приговор потрясающей справедливости и силы при всей его простоте.
Приговор звучит торжественно и свободно, как голос самой беззлобной и могучей природы:
«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов,
Но жить с убийцей не хотим…
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел; — оставь же нас,
Прости! да будет мир с тобою».
Но, чтобы быть смелым, нужно быть уверенным в себе до конца! О одиночество, предохраняющее душу от возмущений преходящего! Псковщина, деревня, дуновения прошлого…
Каждую осень в Михайловское приходят цыгане. Они разбивают табор неподалеку от озера Маланец.
В одну из светлых осенних ночей мы с Беллой Ахмадулиной и поэтом Павлом Григорьевичем Антокольским отправились в табор, к цыганам. Нас пригласили к костру. На огромных чугунных сковородках жарилась рыба. На импровизированном столе возвышались бутылки с вином.