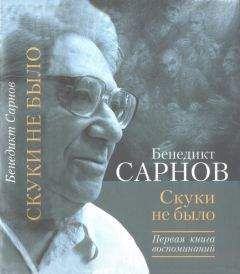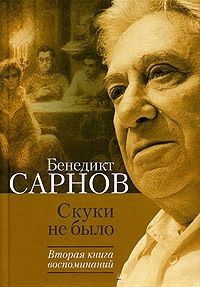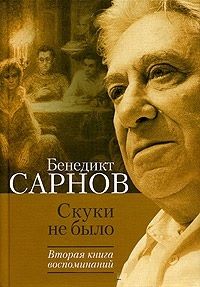Бенедикт Сарнов - Красные бокалы. Булат Окуджава и другие
– Что это они? – подозрительно спросил я у жены. – Что ты там такого им понаписала?
– Ничего особенного, – сказала она. – Просто поблагодарила, и все. А подписалась «Булат Окуджава». Ну, чтобы им приятно было…
Эта моя история имела успех – во всяком случае, у русской части аудитории. Хотя и французы, кажется, тоже поняли, как знаменит наш Булат у себя на родине.
Успех первых его песен
был ошеломителен. Едва ли не на самую первую из них тотчас же появилась любовная пародия (ее сочинил Валентин Берестов). Собственно, это даже и пародией назвать было нельзя. Это был – восторженный панегирик:
Вы слышите, грохочет барабан.
Вы слышите – звенит гитара в лад.
На черта нам Монтан, Монтан, Монтан?
Ведь есть у нас Булат, Булат, Булат!
А какое-то – очень короткое – время спустя другой поэт (Михаил Львовский) с исчерпывающей точностью объяснил природу этого неслыханного успеха:
Самогон – фольклор спиртного.
Запрети, издай указ,
Но восторжествует снова
Самодеятельность масс.
Тянет к влаге – мутной, ржавой
От казенного вина,
Словно к песне Окуджавы,
Хоть и горькая она.
Нефильтрованные чувства
Часто с привкусом, но злы.
Самогонщик, литр искусства
Отпусти из-под полы!
Вспомним первые песни Булата Окуджавы: «Полночный троллейбус», «Часовые любви», «Из окон корочкой несет поджаристой…», «Комсомольская богиня…». Можно разве назвать их злыми? Нет, конечно! Да их и горькими-то, пожалуй, не назовешь. Скорее – светлыми, ясными, прозрачными… Но слово «злы» в процитированном стихотворении Львовского не было ни опиской, ни оговоркой. «Злы» эти песни были не в том смысле, что дышали злобой и ненавистью, а в том, в каком крепкий напиток народ искони называл зельем. Злой – это значит действует, забирает.
Песни Окуджавы забирали, брали за душу, как самый крепкий самогон. Ну и конечно, то обстоятельство, что зелье это отпускалось «из-под полы», то есть было запретным, тоже играло немалую роль.
Но тут сразу возникает некоторое недоумение:
а почему, собственно, эти песни надо было запрещать?
Начальство, от которого исходил запрет, не могло сказать по этому поводу ничего вразумительного. Чуя носом, что песни эти им не по нутру – мало сказать, не по нутру, что они глубоко им враждебны, угрожают самому существованию всей так бдительно оберегаемой ими системы, – более или менее внятно сформулировать, где именно таится в них крамола, они не могли.
Зав. отделом культуры ЦК Поликарпов – один из самых лютых ненавистников Булата – мрачно буркнул по поводу песни, начинающейся словами: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая…»:
– Я в подлой войне не участвовал.
Он же резко осудил финал песенки про Лёньку Королёва:
Но, куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так, погулять),
все мне чудится, что вот за ближайшим
поворотом
Короля повстречаю опять.
Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Лёньки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы
не представляю
без такого, как он, короля.
Осудил – ни более ни менее – за то, что усмотрел в этих строчках призыв к установлению на Москве королевской власти.
Глупее не придумаешь. Но более внятно сформулировать, в чем порочность песен Окуджавы и почему их надлежит запретить, ни Ильичёв, ни Поликарпов, ни более мелкие его прислужники и клевреты так и не смогли.
Дело между тем было ясное. И самую суть дела очень точно сформулировал однажды в разговоре со мной мой друг Женя Винокуров.
– Нельзя, – сказал он, – в одно и то же время петь Окуджаву и строить коммунизм. Петь «Нам песня строить и жить помогает» и строить коммунизм – можно. А спеть «Девочка плачет, шарик улетел», а потом пойти и немножечко построить коммунизм – нет, невозможно даже и вообразить себе такое!
Песни Окуджавы были глубоко враждебны всем этим Ильичёвым и Поликарповым уже по одному тому, что захватывали они не ритмом сплоченной, вдохновленной одной идеей и бодро марширующей в четко заданном направлении толпы – массы, коллектива (недаром главными словами в тех старых советских песнях были местоимения множественного числа – «мы», «нам»: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…», «Нам нет преград ни в море, ни на суше…»). В песнях Булата завораживал, тревожил, волновал, брал за душу одинокий голос, не боящийся говорить о себе и от себя. Он говорил не «мы», а – «я», не «нам», а – «мне»: «Я гляжу на фотокарточку…», «Я в синий троллейбус сажусь на ходу…», «Мне надо на кого-нибудь молиться…».
Дело, конечно, не в местоимениях. В старых советских песнях личное местоимение первого лица и единственного числа тоже нет-нет да и попадалось. Но в тех песнях даже оно произносилось как бы от имени всего советского народа: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…» И тут же поспешно, словно автор вовремя спохватился, что его могут неправильно понять, оно заменялось гораздо более тут уместным местоимением множественного числа: «Но сурово брови мы насупим…» Булат же даже в тех – редчайших – случаях, когда он прибегает к местоимению множественного числа («Нас время учило: живи по-привальному, дверь отворя…», «Наши девочки платьица белые раздарили девчонкам своим…»), тоже говорит о себе и от себя. И хоть личная его судьба (как и судьба всего его поколения) в этом случае оказывается песчинкой, могучим ветром истории втянутой в великие «потрясенья и перевороты» эпохи, лирической темой песни, ее внутренней энергией и тут остаются все те же «откровенья и щедроты» его сострадающей одинокой души:
Сапоги – ну куда от них денешься?
И зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад…
До свидания, девочки! Девочки,
постарайтесь вернуться назад.
«Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите… – говорит он, обращаясь к своим сверстникам в этой же песне. – И все-таки…»
Вся соль именно вот в этом – «И все-таки…»
Старая, «добулатовская» песня всем строем своим, всем своим пафосом (в былые времена искренним, позже – заказным, казенным) утверждала безусловный приоритет государственных интересов над интересами одной отдельно взятой человеческой личности:
Забота у нас большая.
Забота у нас такая:
Жила бы страна родная —
И нету других забот.
Песни Булата всем своим душевным настроем утверждают противоположное. В этом главный и – очень личный – пафос всего его творчества. И его исторических романов, и его так называемых гражданских и сугубо интимных лирических стихов и песен: