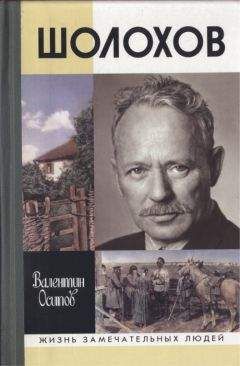Андрей Воронцов - Шолохов
— Религиозный, вероятно? Так-так. Ну и у нас имена из святцев. Только звучит ваше имя уж слишком непривычно для здешних мест: «Аба», «Баба»… Готовая рифма для частушки. Вам бы представляться, к примеру, Андреем. Вы не позволите мне называть вас так?
— Пожалуйста, — сказал удивленный Плоткин.
— Вот и славно. Хоть и в социализме, как говорится, несть ни эллина, ни иудея, а все ж таки здесь не город. Казаки — охальники, им только дай повод позубоскалить. А у вас — авторитет.
— Уже зубоскалят, факт, — оживился Плоткин. — Анекдот сочинили: «Вошел еврей в баню и напугал казаков обрезом».
Михаил захохотал, едва поймав выпавшую изо рта трубку.
— Казаков?.. Обрезом?.. Ну, охальники!
— Такие дела, — сказал довольный Плоткин — видимо, любитель анекдотов. — И кто ж сочинил? Свои — факт! Помылся в бане с активистами…
Михаил снова засмеялся. Сидящая здесь же Мария Петровна густо покраснела: она, очевидно, только сейчас уяснила смысл соленого казачьего каламбура.
Михаил ценил шутку: он и час времени, проведенный за пустой болтовней, не считал потерянным, ежели попотчевал его собеседник стоящей остротой. Он, посмеиваясь, пригласил новонареченного Андрея за самовар, выслушал его просьбу.
— О чем разговор? Конечно помогу! — воскликнул он, хлопая Плоткина по костлявой спине. — Колхоз — дело общее! Покрыть все ваши расходы я, конечно, не в состоянии, ибо вовсе не миллионер, как утверждают некоторые в Ростове-папе и в Москве-маме…
— «Мама» — это Одесса, — поправил его Плоткин. — Факт.
— Что? A-а… В Одессе, наверное, тоже, — усмехнулся Михаил. — Так вот: дам, сколько смогу, уж не обессудьте…
— Вы не беспокойтесь: мы все вернем, как получим кредит!
— Да я не беспокоюсь — не на водку даю, на дело. Когда отдадите — тогда отдадите. Кредит беспроцентный и бессрочный. Только и у меня будет к вам просьба…
— Пожалуйста, — с готовностью отозвался Плоткин.
— Просьба не личная. Вы вот было обобществили у народа мелкий скот и птицу, а потом разобрались, что это перегиб, вернули… Так?
Плоткин кивнул.
— Но как-то так получилось — вероятно, случайно, — что забрали вы живность всю, а вернули самую завалящую…
Або Аронович покраснел.
— Люди, говорят, ходят на колхозный двор, просят назад своих кур и козочек, а им отвечают: «Нет, это наши, колхозные звери, а ваших, кулацких, вам уже отдали». Но ведь каждая хозяйка свою живность до малейшей подпалины на шерсти и до зубца на гребешке знает. Нельзя ли восстановить справедливость?
— Восстановим — факт, — опустив глаза, сказал Плоткин. — Вот только среди коз падеж начался…
— А это потому, что коза — животное деликатное, ей тот же корм, что и лошади и корове, давать не годится! А у вас на общественном базу не делают различий, чтобы хлопот меньше было! Вы вот спросите у Анастасии Даниловны или Марии Петровны — они вам скажут, чем кормить козу! И как доить ее — тоже, а то у вас такие скотницы, которые сами коз отродясь не имели, — посмеивался Михаил, вручая гостю пачку ассигнаций.
— Расписку? — предложил председатель.
— У отца моего, покойника, этих расписок за гражданскую скопилось — ужас! И от красных, и от белых, и от серо-буро-малиновых. Не только что сортир можно ими обклеить, но и полкуреня! Он их мне в наследство оставил, так что мне новых не надо.
На том, пошучивая, и расстались.
Проводив председателя за ворота, Шолохов вытащил трубку, закурил. К нему подошел знакомый казак:
— Михаил Александрович, дай табачку, сил нет, курить хочется.
Михаил достал кисет с махоркой.
— А рюмку водки выпьешь? — спросил он, проницательно глянув в красные глаза казака.
— Кто ж от такого добра отказывается?
Зашли в курень, Михаил набулькал казаку рюмку вровень с краями. Тот взял ее двумя пальцами, как бабочку, отставив в сторону остальные, поднес ко рту, строго глядя на предательски дрожащую руку, и вытянул со смаком, прикрыв затуманенные очи тяжелыми серыми веками. После этого он стоял некоторое время с закрытыми глазами и сосредоточенным лицом, словно прислушиваясь к себе. Михаил с любопытством наблюдал, как на испитое лицо его возвращались жизненные краски. Наконец «пациент» открыл глаза, обильно увлажненные слезой.
— А сам-то что ж? — осведомился он, осторожно, как драгоценность, ставя рюмку на буфет и бросая на графинчик такие же игривые взгляды, какими в юности, наверное, ощупывал ядреные зады казачек.
— Работаю я, Иваныч, нельзя. А ты еще выпей, не стесняйся.
— Вот спаси Христос, — обрадовался казак. Со второй рюмкой он управился так быстро, что Михаил и моргнуть не успел. — Ну, поправил ты меня, Михаил Александрович. Не знаю, что я без тебя бы и делал. Ты слыхал, что Сенина заарестовали?
— Какого Сенина?
— Ну, ты даешь! — удивился Иваныч. — Такого Сенина, какой в твоем «Тихом Дону» Подтелкина казнил!
— Да ты что? Неужели он жив? Где же он прятался до сих пор?
— А он и не прятался. Он апосля амнистии учительствовал в Боковской. Когда Харлампия Ермакова арестовали, его тоже взяли, но скоро выпустили.
— Как выпустили? Да его должны были расстрелять раньше Ермакова! Ермаков-то отказался в казни участвовать! Что-то не сходится!
Станичник пожал плечами.
— Лександрыч, я могу гадать, какая назавтра погода будет, а ишо, что мне моя баба скажет, когда я на бровях в свой курень приволокусь. Но нипочем я бы не смог угадать, кому советская власть хочет дать паек с довеском! Кубыть, у них разнарядка какая есть. Сегодня — Ермакова, а завтра — Сенина… А послезавтра, скажем, тебя. Шутю! Однако загостился я! Пора и честь знать. Премного, Михаил Александрович, благодарны за угощение. — Говоря это, Иваныч смотрел не на Михаила, а на графинчик, как будто с ним и прощался.
— Будь здоров. Захаживай и другой раз. Погоди, Иваныч! А где этот Сенин сидит?
— Гутарят, в Миллерово отвезли.
Станичник ушел, а Михаил все стоял в задумчивости. Живой герой «Тихого Дона», которого он и в глаза никогда не видел! Немного оставалось в живых тех, кто послужил прототипами его героев. В большинстве своем это были простые казаки. А тут такой зубр! Один из тех, кто подписывал приговор подтелковцам! Михаил сам видел эту подпись в архиве Ростовского ГПУ. Для того чтобы расстрелять Сенина, никаких больше доказательств не требовалось. А он три года гулял на свободе, учил детей, читал, может быть, про себя в «Тихом Доне». Не исключено, что он единственный, кто знал, как на самом деле происходил уже описанный Михаилом суд над подтелковцами. Через какое-то время его могут расстрелять, и никто уже этого не узнает. «Надо ехать в Миллерово», — решил Михаил.