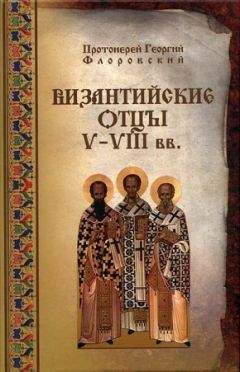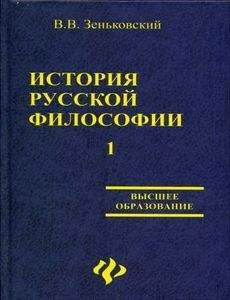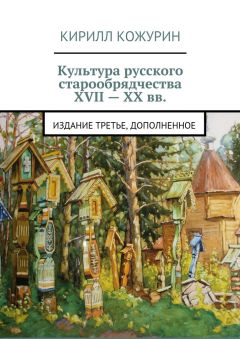Анатолий Ведерников - Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры
Именно в свете этого божественного чувства, горевшего в душе самого Пушкина, теряли для него всякое обаяние кумиры гордости и сладострастия.
Но еще более определенно и решительно развенчивает Пушкин свой байронический идеал в поэме «Цыганы». Здесь тот же гордый индивидуалист, свое вольный бунтарь Алеко, покидает жизнь в цивилизованном обществе и пристает к цыганскому табору. Вначале мы принимаем его чуть ли не за мученика какой-то возвышенной идеи: так убежденно и благородно изрекает он приговор испорченному всеми предрассудками и пороками оставленному им человеческому обществу:
О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди, в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов,
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.
Но этот благородный пафос Алеко – только обманчивая видимость себялюбца, который далее сам разоблачает свою неприглядную эгоистическую сущность. После рассказа старика-цыгана об измене его жены Мариулы Алеко гневно восклицает:
Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной
И хищнику и ей коварной
Кинжала в сердце не вонзил?
Но старик кротко возражает ему:
К чему? вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.
Однако Алеко не понимает просветленной покорности старика действию закона природы в женщине, не понимает нравственного оправдания ее непреодолимого сердечного влечения со стороны самого пострадавшего и своей дальнейшей речью разоблачает себя как мстительного эгоиста, раба страстей и чувственной ревности:
Я не таков. Нет, я, не споря,
От прав моих не откажусь;
Или хоть мщеньем наслажусь.
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея:
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул,
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул.
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.
Таков байронический герой в изображении Пушкина. «Герой на счет чужих пороков, заблуждений и слабостей», как говорит Белинский, а на самом деле жалкий невольник собственных страстей:
Но Боже, как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди…
Для человека, которым владеют страсти, роковой исход неизбежен; его ожидает нравственное крушение, и оно неотвратимо совершается для Алеко в столкновении с иной, просветленной, свободой степных скитальцев.
Мы особенно подчеркиваем у Пушкина противопоставление индивидуалиста Алеко вольной общине Божиих детей.
Свобода и беспечность, простодушное следование естественному закону природы и влечениям неиспорченного сердца уподобляет их птичке Божией, которая
… не знает
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда;
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу Бога внемлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет —
И туман и непогоды
Осень поздняя несет:
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальные страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.
Так и степные скитальцы-цыганы, покорные законам природы, живут как птицы, как полевые лилии, повинуясь «последовательности роста и цветения, инстинкту перелета, невольным переменам сердца. Отсюда в них глубочайшее доверие к своей природе, к ее естественным побуждениям, ко всему внезапному и беспрекословному, что бы из нее ни вырвалось. В их страстных порывах есть вся невинность младенческого народа, еще не вышедшего из первоначальной гармонии. В их скудной и нестройной вольности есть последняя свобода безответственного духа, предавшегося не своей, но Отчей воле», – говорит один тонкий аналитик Пушкина по поводу поэмы «Цыганы». И мы чувствуем, что просветленный кроткой покорностью судьбе старик-цыган и даже послушная влечениям своего сердца Земфира составляют полную противоположность гордому своим самоутверждением Алеко, слепая ревность которого доводит его до злодейства: он убивает Земфиру и ее любовника. Это злодейство не находит никакого нравственного оправдания в понятиях старика-цыгана, который произносит свой трагически величественный приговор убийце:
Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов,
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел – оставь же нас;
Прости! да будет мир с тобою.
Так Пушкин развенчивает дельфийского идола гордости и самоутверждения, решительно осуждая в себе индивидуалистическое начало, искание личных прав и героизм за счет чужих недостатков. Внутренняя борьба поэта за свое освобождение от демона гордости усиливается. Поэтическое разоблачение соблазна, обнажение его внутреннего секрета и механизма является главным орудием поэта в этой борьбе. Но соблазнительная сила гордости ищет войти в его душу иными путями, и поэт напрягает все свои силы, чтобы распознать и разоблачить врага в новых его превращениях.
Преодоление демона гордости
В трагедии «Борис Годунов», которую Пушкин заканчивает почти одновременно с поэмой «Цыганы», демон гордости представлен в новых превращениях, составляющих целую стихию человеческого тщеславия и властолюбия. Сам Годунов, Самозванец, Марина, Шуйский, Воротынский, Басманов – вот вереница образов, воплощающих страсть властолюбия. Как и всякая страсть, властолюбие неизбежно приводит человека к нравственной катастрофе. Так Борис Годунов идет к трону через преступление. Однако достижение высшей власти не оправдывает в его глазах этого преступления. Убийство царевича Дмитрия мучит Бориса, развенчивая в его глазах все обаяние власти и обесценивая все добрые начинания его незаконного царствования. Суд совести разоблачает в нем демона властолюбия, толкнувшего его на преступление. Следующий монолог Бориса есть скорбное признание вины, порожденной стремлением к власти, к господству над другими: