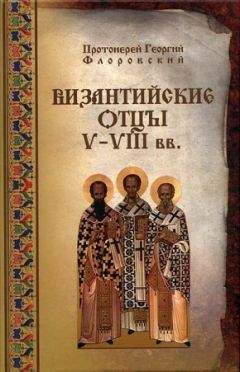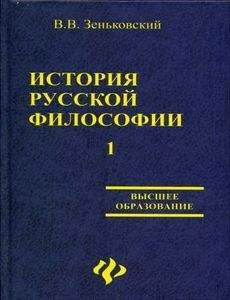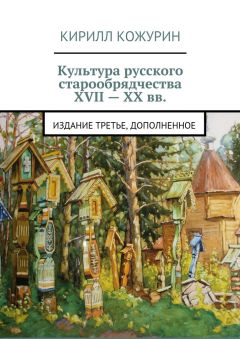Анатолий Ведерников - Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры
Внимая искусительным речам лукавого духа, Пушкин признается: «Непостижимое волненье меня к лукавому влекло», и дальше: «Я неописанную сладость в его беседах находил». По-видимому, сладость бесед умного духа приобретала все большую власть над неустановившеюся душою Пушкина, который опять делает знаменательное признание:
Я стал взирать его глазами,
Мне дался жизни бедный клад;
С его неясными словами
Моя душа звучала в лад…
Это звучание в лад с речами умного духа означало не что иное, как торжество последнего над душою поэта:
Мне было грустно, тяжко, больно,
Но, одолев меня в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе.
Таковы свидетельства самого поэта о своем порабощении кумиру гордости, своеволия и сомнения. Но эти же свидетельства, выраженные в том же «Демоне» и в набросках к нему, являются уже началом отрезвления, началом исповеди, началом освобождения от власти кумиров. «Разоблачив пленительный кумир, я вижу призрак безобразный», – оставляет он в черновиках важное признание, и нам теперь необходимо определить способы этого разоблачения кумиров.
Создавая свои так называемые байронические произведения, Пушкин одновременно освобождается от увлечения Байроном и от власти своего ужасного соблазнителя – демона гордости и сомнения. Последний действует не один, а в союзе с другим демоном – сладострастия, праздности, светской суеты. Все это подвергается постепенному обнажению в душе Пушкина, оставляя в поэзии его горькие строки раскаяния и сожаления. Покаянных стихотворений у Пушкина немало, и они сами по себе достаточно убедительно говорят о внутреннем переломе в душе поэта. Вот горький остаток пережитых страстей и неумеренных увлечений:
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец!
Живу печальный, одинокий,
И жду: придет ли мой конец?
Ощущение сердечной пустоты посещает Пушкина еще в 1821 году. И с течением времени, несмотря на действие соблазнов, такие ощущения все чаще повторяются: они предвестники неизбежного разочарования и будущего раскаяния поэта. К тому же ряду признаний относится и следующее стихотворение:
Я дружбу знал – и жизни молодой
Ей отдал ветреные годы;
И верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы…
Но все прошло! – остыла в сердце кровь.
В их наготе отныне вижу
И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь,
И мрачный опыт ненавижу…
В 1828 году Пушкин пишет уже прямую поэтическую исповедь, вызываемую воспоминанием о прошлой жизни.
Когда для смертного умолкнет шумный день
$$$И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
$$$И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
$$$Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
$$$Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
$$$Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
$$$Свой длинный развивает свиток;
И, с отвращением читая жизнь мою,
$$$Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
$$$Но строк печальных не смываю.
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
$$$В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в гонении, в степях
$$$Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
$$$На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
$$$Неотразимые обиды.
И нет отрады мне – и тихо предо мной
$$$Встают два призрака младые,
Две тени милые, – два данные судьбой
$$$Мне ангела во дни былые.
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
$$$И стерегут – и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
$$$О тайнах счастия и гроба.
Смущаемый воспоминаниями поэт в следующем, 1829 году прямо сравнивает себя с блудным сыном, ушедшим на страну далече (Лк 19, 12). Стихотворение, в котором он это сравнение делает, дышит искренним раскаянием:
Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой!
Так отрок Библии – безумный расточитель —
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал!
В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном вихре суеты,
О, много расточил сокровищ я сердечных
За недоступные мечты!
И долго я блуждал, и часто утомленный,
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,
Я думал о тебе, приют благословенный,
Воображал сии сады!
Путь покаяния естественно ведет к Богу, к Отцу Небесному, и с 30-х годов религиозное настроение делается основным в душе Пушкина. Легкомысленное отношение к религии, к вере в Бога преодолено поэтом, о чем свидетельствуют и его друзья, и личные высказывания Пушкина. Так, по поводу переводного сочинения Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» Пушкин говорит: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли и применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием – и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению, и погружаемся духом в ее божественное красноречие». Есть и другие мысли Пушкина о Евангелии и об особенно поразивших его евангельских фактах, записанные А. О. Смирновой после одной беседы с Пушкиным в присутствии князя Вяземского. Черновые тетради поэта содержат много выписок из Четьих-Миней и Пролога. Известно сотрудничество Пушкина в составлении князем Эристовым «Словаря исторического о святых, прославляемых в Российской Церкви». Показательно также составление Пушкиным по подлинной рукописи жития преподобного игумена Саввы для народа. Все это факты прямого обращения Пушкина к религии, но они недостаточны для раскрытия и понимания его религиозно-нравственного возрождения, которое, совершаясь в глубине души, нашло наиболее яркое выражение в поэтическом творчестве.