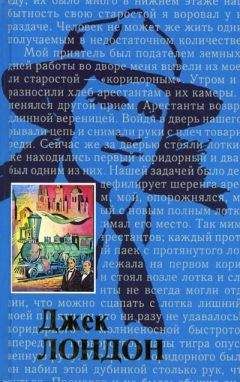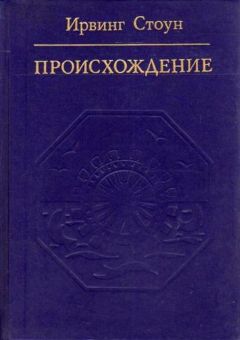Юрий Бондарев - Выбор
— Овал лица, выражение глаз, голос — как все повторилось в твоей дочери, Владимир, — говорил между тем Илья, чуть покачиваясь с каблуков на носки и безжизненно улыбаясь. — Мой сын Рудольф ничем не похож на меня. То есть русского в нем — нуль. Педантичный, бережливый немец. Надеется торговать с Sowjetunion[19], но русский язык выучил плохо. Зова крови никакого. Россия интересует как выгодный торговый партнер, Америка — как идеал, образец. Рудольф… Рудольф Рамзэн. Вот видишь, Владимир, и у меня сын. Но… в общем, какой смысл? Видимся мы раз в год. В рождество. Он равнодушен ко мне. Кровный след, как видишь, я на земле не оставил.
— Я как-то очень сегодня устала, папа. Мне пора. Я попрощаюсь с вами, Илья Петрович, — сказала Виктория и, поправляя волосы, отклонила голову, взяла сумочку со стула. — Завтра в котором часу самолет?
— Провожать не надо, прощания напоминают похороны, — сухо предупредил Илья и прищурился на Викторию сплошь черными, вспоминающими и неразмягченными глазами. — Вы сможете выполнить одну мою просьбу, Виктория?
— Конечно, если я в силах, Илья Петрович.
И, высосав шампанское из бокала, он ненасытно задохнулся сигаретой, в раздумывающей медлительности вышел на слегка шатких ногах в другую комнату и вернулся через минуту.
— Передайте маленький сувенир вашей матери, которая, к большому сожалению, плохо себя чувствует, как мне известно, и здесь быть не смогла, сказал Илья с преувеличенной чопорностью и подал Виктории красную полированную коробочку, продолговатый ювелирный футляр. — Подарок куплен не в Италии, а в «Березке» на… как его… Кутузовском проспекте. Хочу надеяться, что выбранные много серьги понравятся вашей матери. А это вам, Виктория. С робкой надеждой, что скромный презент понравится вам тоже, добавил Илья, наклоном головы прося позволения до конца быть любезным и не отказывать ему, подавая вторую такую же полированную коробочку Виктории.
Она спросила быстро:
— Что здесь, Илья Петрович?
— Кулон. Авось не будете меня бранить.
Она, краснея, вопросительно промелькнула глазами по лицам отца и Ильи, раскрыла коробочку и тотчас потянула оттуда тончайшую цепочку кулона, приложила его к груди перед зеркалом, но сказала без особой радости:
— Очень женственно. Спасибо. Как тебе, па?
— Я не люблю подарков, Вика, — нашел нужным сказать Васильев и выговорил раздосадованно Илье: — Думаю, что ты достаточно разумный человек для того, чтобы понимать, что дорогие подарки двусмысленны. Зачем эти жесты, Илья?
— Не думал, признаться.
— Владимир Алексеевич, помилуйте! — с сомнением выговорил и замычал выжатым упрекающим смешком Эдуард Аркадьевич. — Вы в высшей степени щепетильны и мнительны! Напрасно, напрасно! Мы сами создаем себе неудобства…
— И шут с ним! Что «напрасно»? — загрохотал Лопатин, вспылив неожиданно. — На каком основании мы должны друг перед другом раскавычивать цитаты хорошего тона! Хохот собачий! По-моему, Эдуард Аркадьевич, вы представили, что находитесь на приеме в некоем посольстве и у вас оторвалась пуговица в неподобающем и неудобном месте в момент вашего тоста!
— Позволю спросить, при чем посольство и почему в таких официальных обстоятельствах приняла участие пуговица?
— Пуговица в самый патетический момент вашего тоста с визгом оторвалась, проклятая, и упала в тарелку с ананасами.
— Какой ужас! — сказал Щеглов и схватился за голову, сделав испуганно-кислое лицо. — Ваше воображение, Александр Георгиевич, нарисовало потрясающую картину брейгелевского свойства, но… мы с вами в гостях, и следовательно, должны…
— В данный момент никому ни копья не должен, хотя раньше и бывало! — гулко и нестеснительно забасил Лопатин, разъяренный чем-то. — Должен только одной строгой даме, вокруг которой вы давеча долго кокетничали и искокетничались вдрызг. Имя дамы — Правда, как вы изволили правильно догадаться, Эдуард Аркадьевич! Поэтому сейчас я должен отдать ей один из должков — кто у кого в гостях? Мы у господина Рамзэна или господин Рамзэн у нас?
Тогда Щеглов отозвался тоном колкой учтивости:
— Вы переступаете границы, уважаемый Александр Георгиевич, врываетесь, так сказать, с ломом…
И Лопатин отчеканил с отгораживающей свирепой вежливостью:
— Я готов стать нарушителем границы светского тона, Эдуард Аркадьевич, для того, чтобы задать вопрос господину Рамзэну. Кто у кого в гостях? Он у нас или мы у него?
А Илья, весь взмокший от пота, весь белый, как кость, не отвечал на вопрос, выкраивая пепельными губами узкую усмешку, в которой не было ни сопротивления, ни защиты, ни задетого самолюбия. Его лицо было недвижно, но эта усмешка распространяла словно бы беспредельную усталость, тихую горечь всепрощающего сожаления.
— Нет, — неотчетливо выговорил Илья. — В гостях — я. Но я — чужой. Как, впрочем, все мы на земле. Чужие. Что касается до подарков, то они маленькие житейские радости. Возможно, нам, мужчинам, их не понять. И, право, нет причины. Однако я не в силах отмести подозрения…
Его печальная усмешка, его слова, сказанные покойно, источали болезненную покорность судьбе, намекам чужого недоверия и вместе некую оцепеняющую силу грустного внушения, и видно было, как серые глаза Виктории наполнялись мягкой, искрящейся влагой, точно она извинялась перед Ильей за произнесенные здесь грубости. (Неужели за эти дни он приобрел такое влияние на нее?) Потом она оглянулась на Лопатина, взглядом призывая его отказаться от ненужных резкостей и подозрений, и сказала наперекор всему, что могло сейчас стать препятствием:
— Я возьму подарки, папа. Со мной ничего не случится. Спасибо, Илья Петрович. Я передам маме. — Она придвинулась на шаг к нему, встала на цыпочки и очень серьезно поцеловала его в подбородок. — Провожать я вас не приеду. Вы не хотите. И хорошо. Потому до свидания. Кстати, жить чужой среди чужих лучше всего. Никто никого не знает. Никому до тебя нет дела. Хорошо. Жить, как киплинговская кошка. Помните, она ходила сама по себе?
— Не кошка, а кот, — поправил Лопатин, мрачнея. — В этом есть разница, Вика.
— Все равно! Еще раз до свидания!
Илья с отяжеленным дыханием поцеловал ей руку, ноздри его сжались и разжались, как если бы он втянул запах оздоровляющего лекарства в тепле ее кожи, выговорил застревающим в горле шепотом:
— Прощайте, Виктория. Я все сделаю, что обещал.
— Почему «прощайте», Илья Петрович? Почему вы так грустно сказали?
Он промолчал, глядя ей в лицо. Она повторила:
— Почему «прощайте»?
— В моем возрасте никому не ведомо, проснешься ли утром здоровым, насильственно-бодро и вежливо объяснил Илья и, уронив голову в поклоне, промокая влажный лоб платком, напряженно-ровными шагами проводил Викторию в переднюю.