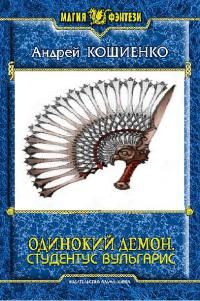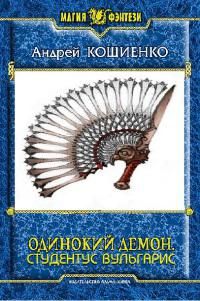Александр Пузиков - Золя
«Господин Президент,
позвольте мне в знак признательности…»
Из под пера на бумагу ложится несколько банальных фраз «справедливо приобретенная слава…», «Вы покорили все сердца…» «Ваша счастливая звезда…» Хватит! Рядом с холодно вежливыми словами сразу же горячие и гневные: «Но какое пятно грязи на Вашем имени — я хочу сказать, на Вашем правлении — это омерзительное дело Дрейфуса». Теперь пора сказать о причине, которая побудила его написать все это. «Военный суд только что осмелился (именно осмелился) по приказанию свыше (именно свыше) оправдать пресловутого Эстергази». И пусть президент проглотит еще раз пилюлю — «…во время Вашего президентства». А дальше: «Раз уж они осмелились, осмеливаюсь и я… Я выскажу всю правду, потому что я обещал ее высказать… Я не хочу быть сообщником».
Начало есть, можно приступить к изложению сути, но вот что получилось. Выходит, что президент все знал и молчаливо потворствовал преступлению. Золя ничего не известно о степени информированности президента, и было бы неосторожно, не имея доказательств, сваливать вину на него. В душе Золя уверен что и он приложил руку, но сейчас не время говорить об этом. Он обращается к президенту как человеку, облеченному высшей властью, могущему исправить ошибку. Его надо отделить от других. «Я убежден — мое уважение к Вам не позволяет мне думать иначе, — что Вы не знаете Правды. И кому же, как не Вам, первому сановнику страны, я должен указать на зловредную шайку подлинных преступников».
Золя перечитывает написанное. Начало есть. Оно далось сравнительно легко. Куда сложнее передать историю «дела», назвать главных действующих лиц этой драмы. Золя взглядывает на часы. Стрелка указывает на полночь. Так поздно он редко засиживался дорожа ясным рабочим утром. Несколько шагов по комнате. Как уложить на немногих страницах ворох всяких фактов, которых хватило бы на целый том? Золя отбрасывает все случайное, второстепенное, и вот складывается фраза: «Прежде всего я хочу пролить свет на дело Дрейфуса». Он возвращается к тому времени, когда еще почти ничего не знал о «деле», опирается на свои беседы с Матье Дрейфусом, Бернаром Лазаром, Леблуа. Среди многих имен, «причастных к делу», одно заслуживает особого внимания — подполковник дю Пати де Клам. Это сейчас он подполковник, а в ту пору майор. Участие в осуждении Дрейфуса неплохо вознаграждается. Золя вспоминает все, что ему известно об этом субъекте. «Военная косточка», антисемит, он сразу же поверил в виновность Дрейфуса и, когда ему было поручено расследование, сделал все возможное, чтобы белое стало черным. Обрывки секретного донесения («бордеро»), которые добыла французская разведка в германском посольстве, в самом деле свидетельствовали о факте шпионажа. Но вместо того чтобы всерьез заняться расследованием, найти настоящего предателя, Второе бюро Генерального штаба, ведавшее разведкой, умышленно пошло по ложному следу. И в этом, как думает Золя, немалую роль сыграл майор дю Пати де Клам. Он не только вопреки всякой очевидности доказывал сходство почерков автора «бордеро» и Дрейфуса, но и всяческими недозволенными способами старался заставить Дрейфуса признать свою вину.
Золя вновь берет перо: «Это он додумался приписать Дрейфусу пресловутое сопроводительное письмо; это он мечтал наблюдать за ним, заключив его в стеклянную клетку; это он требовал, чтобы его провели к заключенному ночью, и, вооружившись потайным фонарем, намеревался направить на спящего поток света и захватить его врасплох…»
Дю Пати де Клам! А где же были другие? Они не только не пресекли действия дю Пати де Клама, но сочли уместным выдать все это «за святую правду». Золя последовательно излагает события. Сначала пристрастное следствие, затем тайный суд, гнусная церемония публичного разжалования, лишения чинов и орденов. Тюрьма. Ссылка на Чертов остров. Все происходит за закрытыми дверями, как будто речь идет о государственной тайне, разглашение которой обезоружит Францию. Золя не может себе отказать в удовольствии поиронизировать на этот счет: «Если бы предатель открыл границу врагу и пропустил бы императора Германии до самого собора Парижской богоматери, и тогда бы, наверное, не предпринимали таких мер к сохранению полнейшей тайны и молчания».
Золя возвращается к обвинительному акту. Теперь он знаком с ним. Какой позор! «Я взываю ко всем честным людям — пусть они прочитают этот обвинительный акт! Сердце не может не содрогнуться от негодования, нельзя сдержать крик протеста».
А что сказать насчет 14 пунктов обвинения, о которых кричала пресса? Существует только один пункт — «бордеро». Но как раз по нему-то эксперты и не пришли к соглашению.
Теперь пишется легко и почти без помарок. Нужный тон найден. Чтобы как-то оправдать приговор, распустили слухи о существовании сугубо секретного документа, где упоминается о каком-то «Д». Золя не видел этого документа, но он может и о нем сказать — ложь! Ибо не существует никакого документа, обнародование которого могло бы повлечь войну.
«Теперь мы подошли к делу Эстергази», — записывает Золя. Честный человек нашелся. Это полковник Пикар. Он сменил умершего полковника Сандгерра и, получив доступ к секретным документам, обнаружил письмо-телеграмму, компрометирующую майора Эстергази. Пикар сообщил об этом новому министру генералу Билло и начальнику генерального штаба генералу Буадефру. Началось расследование, и скоро оба генерала, как и сам Пикар, убедились, что «бордеро» написано не Дрейфусом, а Эстергази.
Обвинение Эстергази неизбежно вело к пересмотру всего дела Дрейфуса… «Вот уже год, как генерал Билло и генералы Буадефр и Гонз знают, что Дрейфус невиновен, и они хранят про себя свое страшное открытие!» Их уговаривали пересмотреть дело, уговаривал Пикар, уговаривал Шерер-Кестнер. «Нет! Преступление было совершено, и генеральный штаб не мог уже признаться в своем преступлении».
Золя сказал почти все, что хотел. Еще несколько слов о деле Эстергази, и можно переходить к заключению.
Наступило утро, но за окном темно. Золя перечитывает написанное. Он доволен. Остается придумать последние фразы, придать им особую весомость. Выводы должны быть краткими, бьющими без промаха в цель. Прежде всего о решении двух военных судов: «Первый суд, судивший Дрейфуса, мог быть введен в заблуждение, я это допускаю, но второй, оправдавший Эстергази, бесспорно, преступен». Последние слова. Они родились с самого начала и звучат как лейтмотив во всем его послании к Феликсу Фору.
«Я обвиняю первый военный суд в том, что он нарушил закон, вынося обвинение на основании не представленного суду документа. Я обвиняю второй военный суд в том, что он, подчиняясь дисциплине, покрыл это беззаконие и совершил, в свою очередь, юридическое преступление, оправдывая заведомо виновного.