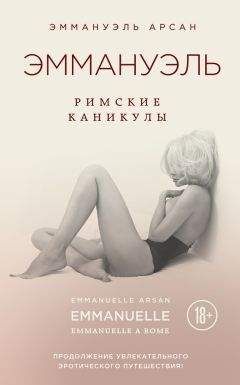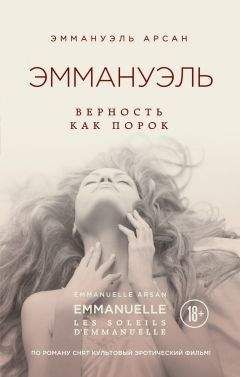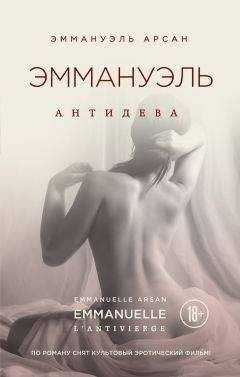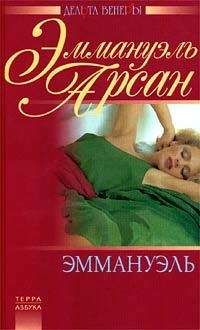Эммануэль Каррер - Лимонов
«Мне повезло, – думал он. – У меня появились такие друзья, рядом с которыми умереть – большая честь. А ведь я мог прожить жизнь, так и не встретившись с ними, но это случилось. И это хорошо».
Он стал ездить в Москву, до которой от Нижнего Новгорода было всего 400 километров. Вначале он ничего не боялся, но репрессивный режим ужесточался, и нацболы из провинции получили инструкции избегать прямых поездов, потому что, покупая билет, надо предъявлять паспорт, и есть риск попасть в поле зрения ФСБ. Они стали ездить на местных электричках, ползающих как черепахи, но дающих возможность разбивать поездку на куски, перебираясь из города в город и тем самым избегая контроля. Теперь путешествие длилось два дня, во время которых они или пили, или спали. Ехали обычно втроем-вчетвером – прыщавые мальчики, с бледной кожей и красными руками, в джинсах, куртках и черных шапочках, – и пассажиры всю дорогу на них опасливо косились. Москва ребят пугала. Там они чувствовали себя бедными провинциалами. Они боялись, что в метро их остановит милиция, боялись красивых девушек, к которым не осмеливались подойти, и потому старались побыстрее добраться до станции «Фрунзенская», возле которой находился партийный бункер, и позвонить в бронированную дверь. Эту дверь часто приходилось менять, потому что спецназовцы слишком часто кромсали ее автогеном, чтобы, ворвавшись внутрь, перевернуть все вверх дном и увести с собой всех, кто там оказывался. Дверь открывалась, путешественники спускались по ступенькам в подвал, где могли, наконец, облегченно вздохнуть. Они у себя дома.
Захар описывает бункер как нечто среднее между приютом для богемной публики, интернатом для малолетних преступников, залом для занятий боевыми искусствами и импровизированной спальней для посетителей рок-фестиваля. Сырые стены увешаны плакатами и портретами: Сталин, Фантомас, Брюс Ли, Нико и Velvet Undeground и, наконец, Лимонов в форме советского офицера. В помещении стоит большой стол, за которым ели и делали макет «Лимонки», и звуковая аппаратура для концертов. Ночью приехавшие из провинции, расстелив спальные мешки прямо на полу, прикрытом вытертыми коврами, засыпали вповалку среди пустых бутылок и полных окурков пепельниц, и комната наполнялась тяжелой смесью запахов людей и собак. Со временем стали приходить и девочки, и Захар отметил, что они были либо совсем некрасивые, либо напротив – очень хорошенькие. Любимый стиль в одежде – панк или готика. Мальчики в большинстве своем стриглись наголо, хотя были и такие, кто носил длинные волосы, бачки, а иногда даже и аккуратные прически, как у продавца в магазине бытовой техники. Никто ничему не удивлялся, допускалось все, можно было оставаться таким, каким хочется; единственное, что требовалось, – не бояться ни побоев, ни тюрьмы.
В глубине большого зала стояли два письменных стола. Рабочее место Дугина было обставлено с большим комфортом: электрический обогреватель, книжные полки до потолка и даже самовар, но проводил он там в лучшем случае два-три часа в день. Территория Эдуарда выглядела по-спартански, хотя часто служила ему жильем. Популярный писатель, культовая фигура в модных тусовках Москвы и Петербурга, он был знаком со многими артистами и прочими знаменитостями, которые одно время часто захаживали в бункер, как в Нью-Йорке они ходили бы в Factory к Энди Уорхолу. Нацболы из провинции смущались, глядя, как знаменитые музыканты, актеры и модели пробирались между их спальными мешками и сторонкой обходили суровых овчарок, чтобы добраться до большого стола, за которым мой друг, издатель Саша Иванов, по его воспоминаниям, пережил самые захватывающие моменты девяностых годов. Там можно было встретить, рассказывал он, таких людей, каких не встретишь больше нигде: молодых, не похожих на других, без капли цинизма, с восторженно сверкающими глазами. Живых и настоящих.
Поклонники Дугина – фашиствующие студенты с большими портфелями и православные батюшки-антисемиты – выглядели не столь гламурно, как гости Лимонова, зато сам «крупнейший русский философ второй половины ХХ века», если был в ударе, мог буквально заворожить ауди торию, состоящую из знаменитостей и провинциальных мальчишек, красивыми историями из своего репертуара: героические жертвы японских камикадзе, самоубийство Мисимы, буддистская военизированная секта, созданная в Монголии бароном Унгерном фон Штернбергом. Окладистая черная борода, кустистые брови, теплый голос: он представал перед аудиторией тем вдохновенным рассказчиком, который некогда покорил Эдуарда. Увы, столь убедительное обаяние его рассказов куда-то улетучивалось, когда он садился писать. Но Эдуард, который занимался «Лимонкой» по сути в одиночку, не отважился забраковать ни одну из дугинских статей, сухих, слишком отвлеченных и скучных, которые отец-основатель и теоретик НБП передавал ему каждый месяц так торжественно, словно речь шла о Святом Граале. Дугин, судя по всему, искренне верил, что его доктринальные установки – основная суть газеты, причина, побуждавшая читателей с жадностью на нее набрасываться. Ни внешний вид, ни тональность «Лимонки» ему не нравились. Он бы предпочел, чтобы это был толстый, скучный журнал для посвя щенных, вроде тех, которые читал он сам: приходские бюллетени европейских крайне правых.
Чем дальше, тем глубже становилась пропасть, разделявшая паству обладателей двух письменных столов. Как брахманы с презрением взирают на парий, так ученики Дугина взирали на орды пролетариев, завербованных Эдуардом, любителей рока и драк, которые мало интересовались славной историей фашизма, а некоторых – наиболее щепетильных – она просто смущала. Последнее относится и к самому Захару, который терпеть не мог всех этих разговоров о спецотрядах, секциях вольной борьбы и прочей партизанщине. Не оценил он и манеры Эдуарда в шутку называть Дугина «доктором Геббельсом» и был скорее рад тому, что из-за усиливающегося разлада теоретик вышел из партии и создал собственный центр геополитических исследований, ныне процветающий благодаря финансированию из Кремля. Брахманы покинули их ряды, парии остались в своей компании. Так Захару нравилось больше.
3
В своем романе о нацболах «Санькя» Захар приводит разговор своего героя с одним из его бывших учителей, который любит мальчика и старается его понять. Учитель с интересом пролистал несколько номеров «Лимонки»: название партии, ее знамя и лозунги его смущают, но он склонен воспринимать их как провокацию – нечто в этом роде делали французские сюрреалисты, а их он уважает. То, что делают члены партии – а они расклеивают листовки в поездах, развешивают свои флаги на памятниках, на которые трудно забраться, или во время официальных мероприятий закидывают помидорами кого-нибудь из начальства, – учитель считает ребячеством, хотя симпатичным и смелым. Симпатичным, потому что смелым: в России с властью не пошутишь, и за подобные выходки школяров, которые в Западной Европе грозили бы им, как максимум, штрафом, здесь приходится расплачиваться тюремным заключением, чем они весьма гордятся. Со страстной и обидчивой серьезностью герой Захара (подозреваю, что автор описывает самого себя, каким он был лет десять назад) говорит о своей родине, о ее страданиях, о ее душе, и эти речи беспокоят учителя. Когда русские, объясняет он бывшему ученику, начинают объясняться в любви своей родине, рассуждать о ее величии, о святости ее миссии, оперируя доводами типа «умом Россию не понять, в Россию можно только верить», то жди беды. «Было бы гораздо лучше, – продолжает учитель, – дать, наконец, русским возможность хотя бы попробовать вести нормальную жизнь. Поначалу будет трудно, но постепенно все наладится. Сейчас страна распадается на небольшое количество богатых и огромное количество бедных, но появится средний класс, который мечтает о комфорте, хочет быть защищенным от передряг истории, и это будет лучшим выходом для всех».