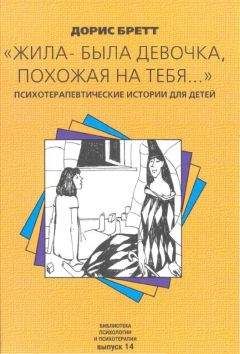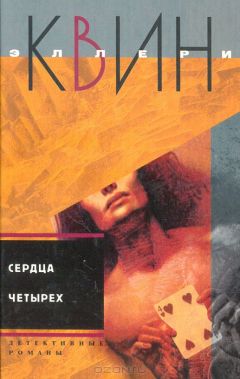Павел Фокин - Блок без глянца
– Однако, – возразил А. А. – вот же вы говорите это не на свободе, а в тюрьме.
– Верно, Александр Александрович, вы правы. Товарищ С. не так уж глупо рассуждает!
– Однако, – обратился ко мне А. А., – шигалевщина действует: и прямо, и навыворот.
Приближался час обеда; все разбрелись к своим койкам составлять «пятерки». Дело в том, что обед заключенные получали не каждый в отдельности, а сразу пять человек в одной большой деревянной миске. Заключенным самим предоставлялось разбиваться для этого на партии по пяти человек. Приходилось отказываться от «буржуазных» привычек. В Блоке, только что узнавшем про обеденные порядки, боролись привычная брезгливость с сильным аппетитом.
– А вы будете обедать? – спросил он меня.
– Да, я думаю, как все.
– А знаете, было бы хорошо с этими настоящими товарищами, – сказал А. А., – они все какие-то чистые.
Это действительно было так. Среди пестрой массы арестованных политические отличались не только выражением своего лица, но и поразительной чистоплотностью. Арестованные моряки и рабочие, между тем, уже взяли нас, неопытных «интеллигентов», под свое покровительство. К нам подошел моряк Ш.
– А вы все еще ни к кому не пристроились? Хотите к нам, А. А.?
– Если можно…
Мы стали в очередь, и Ш. начал подробно объяснять Блоку, почему он рад видеть его здесь:
– Писатели всё должны видеть своими глазами. Кто сможет сказать, что он пережил русскую революцию, если он ни разу не побывал в Чрезвычайке. Вот теперь вы и с этой стороны увидели дело.
– Но с этой стороны я никогда не хотел видеть революцию, – возразил Блок.
– Значит, вас интересует только парад!
– Нет, не парад, – снова возразил Блок, – а настоящая правда, здесь разве она есть?
Они явно не понимали друг друга и говорили о двух разных правдах. Блок с усмешкой обратился ко мне:
– Вот вам случай пофилософствовать по-настоящему. Но философствовать нам в данную минуту уже не пришлось. Уже суп был налит в нашу миску, мы получили каждый по куску хлеба и по деревянной ложке и вернулись к нашему столу. У всех нас были кое-какие собственные запасы, и мы выложили их тут же на стол. Затем мы приступили к исполнению обряда: каждый по очереди опускал ложку в миску, на дне которой плавали кусочки конины, и, проглотив свою ложку супу, дожидался, пока очередь снова дойдет до него. Все мы, очевидно, были одинаково «деликатны», и, когда миска опорожнилась, вся конина оказалась в неприкосновенности на дне.
– Эх, деликатные вы! – сказал рабочий П. и тут же взял газетный лист, оторвал от него пять лоскутов бумаги, достал свой перочинный нож и стал накладывать каждому по равному числу кусочков мяса.
Блок раскраснелся от горячей похлебки; вся обеденная церемония, видимо, привела его в хорошее расположение и, с трудом разжевывая жесткую конину, он начал шутить:
– Зачем же вы, товарищ П., себе тоже положили на бумажку, могли бы свою порцию оставить в миске.
– Нет, это уже оставьте! По-товарищески так по-товарищески, чтоб всем было одинаково…
Обед кончился. Большинство арестованных растянулось на койках. К Блоку подошел хорошо одетый господин и, поклонившись, торжественно произнес:
– Позвольте представиться! Ваш искреннейший почитатель! – Начала их разговора я не слышал; А. А. убедил меня расположиться посвободнее на койке, и я задремал.
Когда я, приблизительно через час, проснулся, господин с хорошими манерами, прислонившись к столу, все еще беседовал вполголоса с Блоком, сидевшим на краю койки у моих ног, или правильнее, господин все еще продолжал говорить, а Блок молча его слушал.
– Понимаете, Александр Александрович, – говорил искреннейший почитатель Блока, – для меня между внешним видом книги и ее внутренним содержанием дисгармония немыслима: переплет – это как бы аккомпанемент к стихам. Ну вот, например, «Ночные часы» – вы понимаете, как трудно подобрать тон кожи; иль решить вопрос: одноцветный корешок или же под цвет обреза. Совершенно ясно, например, что «Ночные часы» не допускают золотого обреза. Да, но какой же? Наконец я остановился на голубовато-синем. Знаете, такого цвета, как плащ у Мадонны Леонардо. Вы согласны со мной, Александр Александрович?
– Да, разумеется.
– Ах, Александр Александрович, если б вы знали, что для меня значит:
«Не жаль мне дней, ни радостных, ни знойных,
Ни лета зрелого, ни молодой весны»!
И он почти шепотом декламировал одно стихотворение за другим.
– Или это, например:
«Она ждала и билась в смертной муке».
– Как вы много знаете наизусть, – сказал А. А., – пожалуй, больше моего.
А искреннейший почитатель, ободренный похвалой Блока, то вполголоса, то снова совсем шепотом продолжал читать и читать стихи, перемежая их отрывками из своей собственной биографии. Когда он, наконец, растроганный и утомленный, отошел к одному из своих ближайших товарищей по несчастью (он с двумя спутниками был задержан при попытке переправиться через финляндскую границу), Блок, повернувшись ко мне, сказал:
– А вы знаете, за такое добродушие невольно прощаешь все! И притом они все теперь в такой беде. Жалко, что ему не удалось перебраться за границу.
Наступили сумерки. В первой камере уже зажгли электричество. Кое-где играли в карты. Распивали чай. Много курили. Некоторые из политических, к которым за это время успели прибавиться еще два правых эс-эра-интеллигента, вели разговоры на злобу дня. В их углу было наиболее шумно, и внимание Блока невольно обратилось в ту сторону. Среди споривших выделялась высокая видная фигура стройного старика в военной форме. Он молча и внимательно прислушивался к спору, до поры до времени снисходительно и иронически улыбаясь. Его строгое лицо, бритое, с коротко остриженными усами, казалось удивительно знакомыми.
– Вы не знаете, кто это такой? – спросил меня Блок. – Я как будто где-то видел его. Это как будто кто-то из видных жандармских генералов.
В это время свет подали и в нашу камеру, и при ярком освещении фигура казавшегося столь знакомым незнакомца еще резче выделилась среди болезненного вида рабочих и изможденных лиц интеллигентов.
– Он как будто исполняет работу последнего из своих подчиненных, – заметил Блок. И в самом деле, этот несомненно бывший сановник как будто подслушивал с очень прозрачной целью горячие речи споривших между собою правых и левых эс-эров. Они же не обращали никакого внимания на него, и постепенно лицо его так и застыло с язвительной улыбкой на губах. Блок не сводил с него глаз: