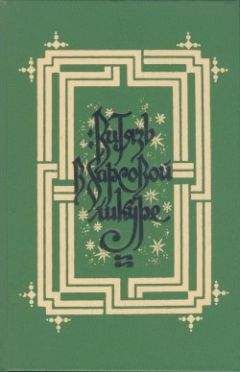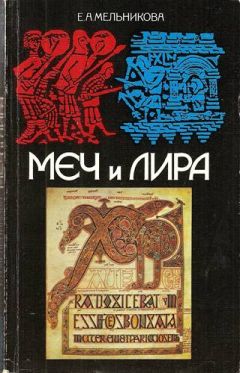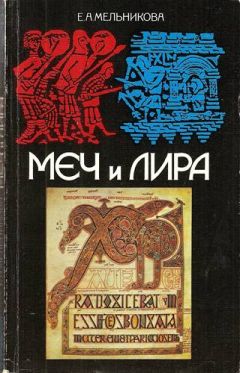Алексей Смирнов - Козьма Прутков
К отрадным событиям тобольской жизни Владимира относится его встреча с Петром Павловичем Ершовым — автором «Конька-Горбунка». Ершов преподавал в городской гимназии, жил трудно и уже ничего не сочинял.
В письме литературоведу Пыпину В. Жемчужников вспоминает: «В Тобольске я познакомился с Ершовым… <…> Мы довольно сошлись. Он очень полюбил Пруткова, знакомил меня также с прежними своими шутками и передал мне свою стихотворную сцену „Черепослов, сиречь Френолог“, прося поместить ее куда-либо, потому что „сознает себя отяжелевшим и устаревшим“. Я обещал воспользоваться ею для Пруткова, и впоследствии, по окончании войны (Крымской. — А. С.) и по возвращении моем в СПб., вставил его сцену, с небольшими дополнениями, во второе действие оперетты „Черепослов“, написанной мною с бр. Алексеем и напечатанной в „Современнике“ 1860 г. — от имени отца Пруткова, дабы не портить уже вполне очертившегося образа самого Косьмы Пруткова»[256].
Из концовки письма следует, что сами опекуны прекрасно понимали, что не удерживаются в рамках образа, наиболее отчетливо проявившегося в мыслях и афоризмах. Это тип посредственного, но вполне самодовольного чиновника, возомнившего себя художественным гением. Козьма Прутков вволю натешил опекунов, а с учетом своего обаяния и добродушия и в читателях вызывал добрую улыбку. Тем более что все его стилевые и жанровые перевоплощения усилиями создателей были исполнены подлинного литературного блеска. Однако ограниченность Козьмы Петровича, на которой настаивали опекуны, не вязалась с безграничностью его творческих возможностей. Видимо, тогда и возникла мысль передать часть авторских прав ближайшим родственникам гения.
В Крыму шла война, и Владимир Жемчужников испросил себе разрешение покинуть Сибирь, чтобы участвовать в боевых действиях. А после войны он работал в частных компаниях, «был одним из директоров Русского общества пароходства и торговли»[257]; потом секретарем Российско-Американской компании.
О зрелых годах Владимира Михайловича Жемчужникова известно не так много. Тем не менее горный инженер К. Скальковский, знавший его в те годы, отмечал в своих мемуарах: «Жемчужников был один из сообщества, писавшего под псевдонимом Козьмы Пруткова. Это был красивый собою и умный оригинал и неудачник. С братьями они славились среди петербургского высшего общества своими школьническими выходками и смелостью. Будучи хорошей фамилии и племянником министра внутренних дел Перовского, он всю жизнь и карьеру испортил связью или женитьбой, не помню, с женщиной, не соответствовавшей его положению. Получив наследство, он положил деньги в чемодан рядом с фейерверком, который вез в деревню. По дороге он курил, фейерверк взорвался, и деньги сгорели. Жемчужников получил сильные ожоги и всю жизнь нуждался в средствах, что не помешало ему быть коллекционером, а также спасти от разорения В. Корша, для которого он нашел деньги для продолжения „С.-Петербургских ведомостей“, конторою которых он одно время заведовал»[258].
Завершил свою карьеру Владимир Михайлович на посту директора Департамента общих дел Министерства путей сообщения, там он был произведен в действительные статские советники, то есть в Табели о рангах достиг чина Козьмы Пруткова. Известно, что В. Жемчужников предпринял большое путешествие в Сирию, Палестину и Египет.
Что касается третьего брата — Александра Михайловича Жемчужникова, то свидетельства о нем крайне скудны, и мы отнесем их к завершающей главе нашего жизнеописания.
Толстой
По словам одной из близких родственниц Софьи Андреевны Толстой, ее «первая мимолетная встреча» с будущим мужем произошла в 1848 году, но никаких последствий не имела.
В течение трех последующих лет обстоятельства не сводили их ни разу. Это не удивительно хотя бы потому, что, как уже говорилось выше, Толстой был холостяком при ревнивой матушке, а Софья Андреевна (урожденная Бахметева) пребывала замужем за конногвардейским полковником Л. Ф. Миллером.
Однако зимой 1851 года (после провала «Фантазии»), сопровождая наследника на одном из устраивавшихся тогда в Большом театре маскарадов, Толстой встретился с «замаскированною» незнакомкой, «пленившей его своим в высшей степени приятным голосом и интересным разговором»[259]. Этой встрече посвящено одно из самых знаменитых и проникновенных стихотворений Толстого, написанное в ночь после маскарада.
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю…
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю![260]
Биограф отмечает, что Софья Андреевна отличалась «хорошим образованием, умом и сильною волею. Этими качествами она всецело и навсегда покорила сердце поэта»[261].
Так провальный дебют Козьмы Пруткова на императорской сцене совпал для Толстого со встречей, которая определила всю его будущую жизнь.
В подобных случаях матушка Анна Алексеевна обычно была начеку и всячески препятствовала сыну в развитии его отношений с избранницами. Однако здесь она дала осечку — ненадолго утратила бдительность, решив, очевидно, что связь ее сына с замужней женщиной не может вылиться ни во что серьезное.
Между тем у Алексея Константиновича завязывается оживленная переписка с новой знакомой. Он посылает ей стихи А. Шенье; спорит о Тургеневе: «Я верю, что он очень благородный и достойный человек, но я ничего не вижу юпитеровского в его лице»[262]; пишет о своем призвании: «Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником. Вообще вся наша администрация и общий строй — явный неприятель всему, что есть художество, — начиная с поэзии и до устройства улиц…»[263] Толстой относит себя к тем «праздношатающимся или вольнодумцам», коим «ставят в пример тех полезных людей, которые в Петербурге танцуют, ездят на ученье или являются каждое утро в какую-нибудь канцелярию и пишут там страшную чепуху <…>…если ты хочешь, чтобы я тебе сказал, какое мое настоящее призвание, — быть писателем.