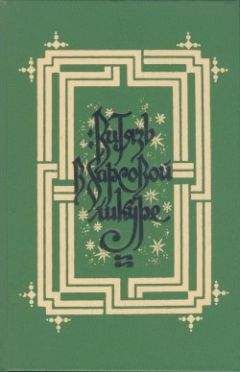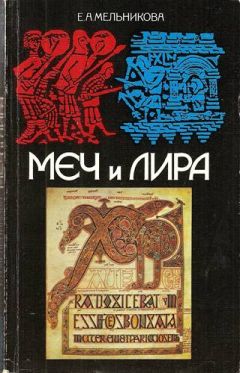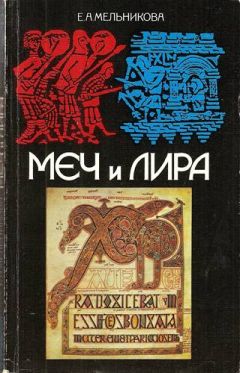Алексей Смирнов - Козьма Прутков
Приемы, которые применил в этом отрывке Прутков для того, чтобы стилизовать анекдот под усредненный язык XVIII века, как мы видим, состоят в инверсиях — перестановках слов, когда действие, выраженное глаголом или причастием, относится в конец; в использовании архаичной лексики (сей, быв, токмо, ниже); вообще в неком гривуазно-учтивом тоне повествования. Их, этих приемов, тут совсем не много, а художественный эффект (в данном случае комический) достигается вполне.
И напоследок еще один анекдот, название которого легло в основу знаменитого афоризма. Видимо, Козьма Петрович хотел подчеркнуть этим преемственность творчества деда и внука: анекдот деда отжимается внуком до изречения.
«НИКТО НЕОБЪЯТНОГО ОБНЯТЬ НЕ МОЖЕТ
Однажды, когда ночь покрыла небеса невидимою своею епанчою, знаменитый французский философ Декарт, у ступенек домашней лестницы своей сидевший и на мрачный горизонт с превеликим вниманием смотрящий, — некий прохожий подступил к нему с вопросом: „Скажи, мудрец, сколько звезд на сем небе?“ — „Мерзавец! — ответствовал сей. — Никто необъятного обнять не может!“ Сии, с превеликим огнем произнесенные, слова возымели на прохожего желаемое действие».
«Никто не обнимет необъятного» дважды в «Плодах раздумья» повторит Козьма Прутков вослед заделом Федотом Кузьмичом (изречения 3, 44).
Не покушаемся более обнимать необъятное и мы, в данном случае понимая под «необъятным» «гисторическое» наследие деда Федота. Тем более что пришло время вернуться к опекунам, вступившим в пору дерзаний.
Какими были их «труды и дни»?
Глава восьмая
НЕ МАЛЬЧИКИ, НО МУЖИ: ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ БРАТЬЕВ ЖЕМЧУЖНИКОВЫХ И ГРАФА А. К. ТОЛСТОГО
Моменты свидания и разлуки суть для многих самые великие моменты в жизни.
Всякий задумавший обратиться к реальному жизнеописанию опекунов Козьмы Пруткова невольно, но неизбежно сталкивается с одним серьезным затруднением. Оно состоит в том, что все четыре автора (Алексей, Александр, Владимир Жемчужниковы и Алексей Толстой) внесли свою лепту — кто больше, кто меньше — в творческое наследие Козьмы, причем общий творческий вклад Жемчужниковых велик, а организаторский — просто решающий. Однако биографических сведений о Толстом дошло до нас куда больше, чем о них. Причина очевидна. По силе дарования, его глубине и обилию созданного в разных жанрах Толстой вырос в национального гения, тогда как литературные заслуги братьев в целом несравнимо скромнее. Это сказалось и на отношении опекунов к Пруткову. Для Толстого Козьма Петрович — сугубо домашняя забава, отдых от больших произведений. Он о Пруткове нигде даже не упоминает. Для поэта Алексея Жемчужникова Прутков — эпизод его творческой деятельности, достойный упоминания, но как бы вскользь, между прочим. Зато брат Владимир, ничем, кроме Пруткова, в литературе особенно не прославившийся, положил годы жизни на издание Полного собрания сочинений Козьмы и увековечивание его памяти. Если бы не Владимировы хлопоты, Прутков мог остаться всего лишь фактом журналистики своего времени. А между тем повторюсь, материалы к жизнеописанию опекунов, на которые мы сумели бы надежно опереться, распределены далеко не равномерно: о Толстом написано относительно много, об Алексее Жемчужникове мало, об Александре и Владимире еще меньше. Художник Лев Жемчужников оставил «Мои воспоминания из прошлого», однако Прутков там вовсе не фигурирует, как будто никакой совместной с Бейдеманом и Лагорио работы над портретом «мэтра» и не было.
Наше жизнеописание Козьмы Пруткова носит историко-литературный характер, оно базируется на документальной основе, поэтому мы зависим от количества и качества сохранившихся документов. Отсюда и наша «неравномерность» в представлении опекунов читателю. Никто не виноват в том, что природа распределяет свои дары не поровну; по собственному, а не по нашему усмотрению; одаривает кого хочет, меньше всего заботясь о тех трудностях, которые она создает при этом жизнеописателю. Но не станем роптать на то, чего нет, а будем радоваться тому, что есть.
Жемчужниковы
Юные (и молодые) годы опекунов мы условно завершили самой серединой XIX века — моментом первого публичного выступления Козьмы Пруткова в роли автора комедии «Фантазия», скрывшегося за литерами Y и Z. Из «Автобиографического очерка» Алексея Жемчужникова следовало, что в 1849 году он поступил на службу в государственную канцелярию, «где с 1855 года был помощником статс-секретаря Государственного Совета».
Продолжим наше знакомство с очерком.
«1-го января 1858 года я вышел в отставку[248]. С тех пор я покинул Петербург как постоянное местопребывание и проживал сначала в Калуге, где женился, потом несколько лет в Москве, а затем за границей: преимущественно в Германии, в Швейцарии, в Италии и на юге Франции. Моя продолжительная жизнь за границей, которая была, впрочем, прервана возвращением на некоторое время домой, была для меня не менее полезной, чем жизнь в провинции. Я убедился на опыте в разумности и в высоком нравственном значении многих сторон западноевропейского быта и проникся глубоким к ним уважением и сознательным сочувствием. С 1884-го я переселился окончательно в Россию. Последние четыре года я живу в деревне, то у себя, в Елецком уезде, то у моих родственников, большею частью в Рязанской губернии»[249].
Одним из главных событий личной жизни Алексея Михайловича Жемчужникова стала его женитьба на Елизавете Алексеевне Дьяковой. Брак этот оказался исключительно удачным. Елизавету Алексеевну отличали женственность, тихость, заботливость. Муж нежно любил ее. При расставании они чуть ли не ежедневно обменивались письмами, делились друг с другом всеми впечатлениями, мыслями, треволнениями дня.
Оглядываясь на прожитые годы, Алексей Михайлович замечал: «Я делю мою жизнь после выпуска из училища на два периода, резко отличающиеся друг от друга по внутреннему своему содержанию: до отставки в 1858 году и после отставки. В первом периоде было более внешних перемен и движения, знакомств, обязанностей и таких занятий, которые служащими чиновниками называются „делом“. Во втором было более сосредоточенности, размышления и критики. Критическое отношение к окружавшему меня обществу заставило меня обернуться задом (вот как радикально! — А. С.) ко всему прошлому и пойти другой дорогой. Именно с той минуты, когда я оказался без обязательного служебного дела, я начал сознавать, что могу быть дельным человеком. Я искренно уважал государственных людей, достойных этого имени; но, достигнув 37-летнего возраста, я начал сомневаться в том, что во мне есть данные для занятия когда-нибудь между ними места. За все время моей службы я успел составить себе репутацию искусного редактора. Действительно, я умел хорошо писать бумаги и доклады и ловко редактировал чужие мнения; и нет сомнения, что при таких условиях я мог бы „составить себе карьеру“; но меня — могу похвалиться — такая перспектива не привлекала. В мои лета пора уже было позаботиться о возможности выражать свои собственные мнения, вместо того чтобы редактировать чужие, да притом еще нередко мне антипатичные. А потому я решился, к немалому удивлению многих моих сослуживцев и знакомых, расстаться и с званием помощника статс-секретаря Государственного Совета, и с званием камер-юнкера»[250].