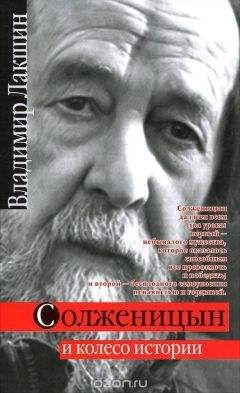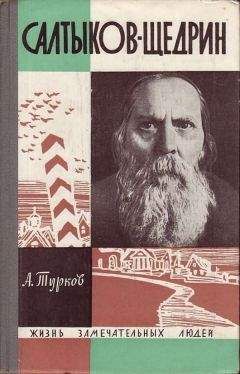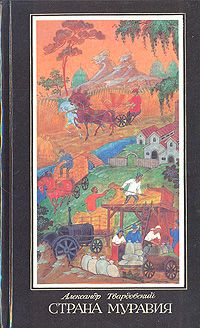Андрей Турков - Александр Твардовский
Двадцать второго сентября у него случился инсульт; отнялась правая половина тела, пострадала и речь. А 14 октября, уже в больнице, был обнаружен рак легких. По словам мемуаристов, медики полагали, что хотя опухоль появилась (и не была замечена врачами) еще года два назад, но события последних месяцев сыграли роковую роль.
Заговорили о близком конце.
«Вверху» всполошились.
«На Старой площади (в ЦК. — А. Т-в) недовольны болезнью Твардовского», — записал слова Косо-лапова Лакшин и позже продолжал: «Каждый день начальник Кремлевки (так называемой Кремлевской больницы на Воздвиженке, тогда проспекте Калинина. — А. Т-в) звонит Демич<еву> и докладывает о состоянии Трифоныча… М<арии> Ил<ларионов>не звонил референт Брежнева и сказал, что отдано распоряжение сделать все возможное — предоставить любых врачей и лекарства…»
Простодушная цензорша прояснила причину этой озабоченности: «Только бы Твардовский не умер в нынешнем году — это была бы крупная неприятность» (слишком очевидна была бы связь с разгромом «Нового мира»).
Но богатырское здоровье позволило поэту еще больше года сопротивляться страшной болезни.
В феврале 1971-го Александра Трифоновича перевезли домой (хотя потом из-за ухудшения снова временно брали в больницу).
«Глаза синие, умные, — записывал часто навешавший его Лакшин, — и несчастные, когда „слово мечется“, как он выразился, а его не схватишь… Я упомянул в связи с чем-то „Новый мир“. Он сказал: „…Это боль, это боль“».
«Правая рука — крупная, тяжелая, неподвижно лежала на колене, — вспоминал Кондратович. — „Скрюченные персты“ — сразу же вспомнились его же слова об отцовской руке, руке кузнеца. Скрюченные персты уже не разгибались много недель. Он подал здоровую, левую, в ней была жизнь, в пожатии я почувствовал силу, которую еще надо было немного сдерживать, и меня это очень обрадовало. Потом я увидел, как он этой левой довольно легко достал из кармана пижамы сигарету и, зажав в коленях коробок спичек, сам прикурил, и во мне вспыхнула надежда: а вдруг, случаются же на свете чудеса!
И еще день был такой ослепительно мартовский. Я шел сюда от Калужского шоссе кратчайшим путем, лесом. Чистый звенящий наст слепил глаза, и надо было идти, глядя вниз, под ноги, а на веки ложилось блаженное тепло. Такой же теплый свет лился теперь в комнату, и он, улыбаясь, спросил: „Новости… Есть?“
Спросил, как прежде, только слова теперь существовали отдельно, не связываясь в одну слитную фразу. И я сказал, что кое-какие новости есть, и рассказал ему о них, и он слушал с вниманием, весь подавшись вперед, а за окном виднелся кусочек дачного участка с березами и елками, просвеченными мартовской синевой, маленький кусочек Смоленщины, или Подмосковья, или самой России — все, что осталось ему видеть каждый день. Но казалось, что он и этим доволен, он улыбался, слушая новости и вглядываясь своими синими-синими глазами за окно. И подумалось мне, что чудо и впрямь может случиться.
И тогда Александр Григорьевич Дементьев, который тоже пришел проведать Александра Трифоновича, сказал: „Давай-ка, Саша, пройдемся, ты же любишь ходить“. С помощью Дементьева он с удовольствием и без особого напряжения поднялся и, уверенно ступая левой ногой и приволакивая правую — еще месяц назад она была совсем неподвижна, — прошел всю длину комнаты и обратно. „Смотри, смотри, Саша, сейчас гораздо лучше, чем в последний раз“, — удивлялся Дементьев, и в голосе его тоже слышалась надежда.
„Какой прекрасный день! — сказал я. — По всему видно — началась весна“.
Сказать мне хотелось не то, мучительно хотелось сказать, что, может, все обернется по-другому, и болезнь пойдет вспять…
Почувствовав мое настроение, Александр Григорьевич нашел осторожные слова моей и своей, нашей общей надежде: „Да, Саша, хорошо на улице. Скоро все растает, не заметишь, как май пройдет, и ты выйдешь под те вот березки…“
И слушая его и продолжая улыбаться, Александр Трифонович в ответ медленно повел головой. Ни один мускул не дрогнул на его лице, но смотрел он не за окно, а на нас, и медленно повернул голову в одну сторону, затем — в другую. „Нет, — безмолвно ответил он, — по траве я уже больше не пройдусь…“
Он все знал и ни на что не надеялся. И был спокоен. Только улыбка медленно стала сходить с лица. И, по-моему, он нас в это время не видел.
Я давно и отлично знал, что у Твардовского сильный характер — это знали многие. Но я не мог даже предположить все величие этого характера перед лицом самой смерти».
Он слабел и худел, но иной раз по-прежнему остро реагировал, если разговор касался того, что волновало.
Когда, еще в конце 1970 года, Солженицыну присудили Нобелевскую премию, Александр Трифонович сказал жене: «А ведь и нас вспомнят, как мы за него стояли», — и с улыбкой: — «И мы — богатыри». Выслушав же прочитанную ему ругательную статью в «Известиях» о новом лауреате проронил: «А я вот в нетях» (не в силах протестовать, что ли?).
«Ожил, повеселел, когда я стал вспоминать Маршака, — записывал Лакшин 15 Июля 1971 года, — даже пытался, как прежде, передразнить его.
Как-то невольно повернулся разговор на „Новый мир“, я сказал о письмах, какие все еще идут, и что дело-то не погибло. „Не погибло, не погибло!“ — вдруг вскричал он с каким-то ожесточением и азартом. „Не погибло!“ — и рукой замахал».
А вот каким запечатлелся Александр Трифонович в памяти поэта Константина Ваншенкина:
Он, словно между дел
И словно их немало,
Средь комнаты сидел,
Задумавшись устало.
Ушла за дальний круг
Медлительная властность,
И проступила вдруг
Беспомощная ясность
Незамутненных глаз.
А в них была забота,
Как будто вот сейчас
Ему мешало что-то.
Он подождал, потом
(Верней, слова, ложитесь!)
Негромко и с трудом
Промолвил: — Покажитесь…
Я передвинул стул,
Чтоб быть не против света,
И он чуть-чуть кивнул,
Благодаря за это.
И, голову склоня,
Взглянул бочком, как птица,
Причислив и меня
К тем, с кем хотел проститься.
А «наверху» одни все еще не могли уняться и бдительно следили, как бы не пропустить «лишнее» упоминание о поэте или колючую строчку из его стихов, другие же, похоже, несколько стеснялись всего содеянного и делали примирительные жесты: выдвинули на Государственную премию чуть ли не четырехлетней давности сборник «Из лирики этих лет» (1967).