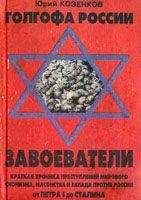Томас Манн - Путь на Волшебную гору
Предложение «Дайэл пресс» написать предисловие к сборнику романов и повестей Достоевского, к шести небольшим вещам, входящим в настоящий том, сразу же показалось мне весьма привлекательным. В издательской умеренности, определившей характер этой книги, есть нечто успокоительное, нечто ободряющее для комментатора, который почувствовал бы испуг, чтобы не сказать — ужас, перед задачей сделать всю необъятную вселенную Достоевского предметом своего изучения и рассмотрения; быть может, он вообще никогда в жизни не принес бы великому русскому писателю своей критической дани, не получи он нынешней возможности сделать это, так сказать, в облегченной форме, на ограниченном пространстве, с определенной целью и с тем самоограничением, которое столь благодетельно данной целью предуказано.
Вот что поистине удивительно: за свою писательскую жизнь я посвятил обстоятельные исследования Толстому, а также Гёте — по нескольку статей каждому из них. Но о двух других факторах моего духовного воспитания — о Фридрихе Ницше и Федоре Достоевском, которым я обязан не меньше, чем Гёте и Толстому, которые столь же глубоко потрясли меня в молодости и чье воздействие на меня не переставало расти и углубляться в зрелые годы, я не написал ничего связного. Статью о Ницше то и дело требовали от меня друзья, и, казалось бы, написать ее мне совершенно необходимо, но она так и осталась неоплаченным долгом. А «глубокий, преступный и святой лик Достоевского» (так я однажды выразился) лишь порою возникает в моих сочинениях, чтобы тотчас же вновь исчезнуть. Откуда у меня это стремление избежать, обойти молчанием подобные темы, тогда как величие тех двух мастеров, горящее вечным светом на небосводе литературы, внушило мне если и слабое, то во всяком случае отрадное для меня красноречие? Впрочем, оно и понятно. Мне было легко с воодушевлением и ласковой иронией воздавать должное божественным, осененным благодатью детям природы, которые были одарены возвышенным простодушием и несокрушимым здоровьем: автобиографическому аристократизму Гёте, создателю своей собственной величавой культуры, и эпической медвежьей силе, титанической первозданной свежести «великого писателя русской земли» Толстого с его исполински нелепыми и всегда неудачными попытками нравственного одухотворения свойственной ему языческой силы плоти. Но я испытываю робость, глубокую мистическую робость, повелевающую мне молчать перед религиозным величием отверженных, перед гением как болезнью и болезнью как гением, перед теми, кто отягощен проклятием и одержимостью, в чьей душе святой неотторжим от преступника…
Демоническое следует воспевать в стихах, а не рассуждать о нем — так по крайней мере мне кажется. Оно должно выступать из глубин произведения, по возможности облеченное в юмористическую форму; посвящать ему критические этюды представляется мне, мягко выражаясь, нескромным. Я говорю все это, быть может, и даже скорее всего, из желания оправдать свою собственную леность и трусость. Несравненно легче и проще писать о божественно — языческом здоровье, чем о святой болезни. Можно потешаться над осененными благодатью детьми природы, в особенности над их простодушием, но нельзя шутить над детьми духа, над великими грешниками и страстотерпцами, над святыми безумцами. Невозможно подтрунивать над Ницше и Достоевским, как я это делал в романе — по отношению к баловню жизни и эгоисту Гёте, и в одной из своих статей — по отношению к грандиозной нелепости толстовского учения. Из чего следует, что мое благоговение перед сынами ада, великими богоискателями и безумцами, в основе своей глубже и лишь потому сдержаннее, чем перед сынами света. Поэтому‑то я и доволен, что меня побудили извне к некоторым высказываниям, которые, впрочем, относятся к разряду весьма ограниченных и умеренных.
«О бледном преступнике»… — когда я перечитываю это название главы из «Заратустры», гениального произведения, созданного, как известно, под влиянием патологического вдохновения, передо мною всякий раз встает страдальческое и страшное лицо Федора Достоевского, знакомое нам по нескольким хорошим портретам. Более того, его образ, я полагаю, витал и перед умственным взором самого одержимого из Сильс — Марии, которого мучили неизлечимые головные боли. Ибо сочинения Достоевского играли в его жизни исключительную роль; он часто ссылается на них — и в письмах, и в книгах (между тем, насколько мне известно, Толстого он не упомянул ни единым словом); он именует Достоевского глубочайшим психологом мировой литературы и, из своеобразного смиренного воодушевления, своим «великим учителем», хотя на деле в его отношении к восточному брату по духу едва ли можно обнаружить черты ученичества. Да, скорее всего, они были братьями по духу, несмотря на различие происхождения и традиций, сотоварищами по судьбе, поднявшей их над средним уровнем до трагически — гротескного, — немецкий профессор, чей люциферовский гений (стимулируемый болезнью) созрел на почве классического образования, филологической учености, идеалистической философии и музыкального романтизма, и византийский Христос, на пути которого с самого начала не стояли некоторые гуманистические препятствия, обусловившие развитие первого, и который мог быть воспринят как «великий учитель» просто потому, что не был немцем (ибо самым горячим стремлением Ницше было преодолеть свое немечество), и потому, что освобождал от бюргерской морали и укреплял волю к психологическому разрыву с традицией, к преступлению границ познания.
Мне кажется совершенно невозможным говорить о гении Достоевского, не произнося слова «преступление». Известный русский критик Мережковский неоднократно употребляет его в разных своих работах о создателе «Карамазовых», придавая ему двойной смысл; этим словом он то характеризует самого Достоевского и «преступную пытливость его познания», то объект этого познания, человеческое сердце, чьи сокровеннейшие и преступнейшие движения Достоевский выставляет напоказ. «Читая его, — говорит Мережковский, — пугаешься порой его всезнания, этого проникновения в чужую совесть. Мы находим у него наши собственные сокровенные помыслы, в которых мы никогда бы не признались не только другу, но и самим себе». Однако объективность как бы клинического изучения чужой души и проникновения в нее у Достоевского — лишь некая видимость; на самом же деле его творчество — скорее психологическая лирика в самом широком смысле этого слова, исповедь и леденящее кровь признание, беспощадное раскрытие преступных глубин собственной совести — таков источник огромной нравственной убедительности, страшной религиозной мощи его науки о душе. Достаточно привлечь для сопоставления Пруста и те психологические nouveautes[107], сюрпризы и побрякушки, которыми изобилуют его книги, чтобы понять разницу в направленности, нравственном смысле творчества этих писателей. Психологические находки, новшества и смелые ходы француза не более чем пустяшная игра в сравнении с жуткими откровениями Достоевского — человека, который побывал в аду. Мог ли Пруст написать Раскольникова, «Преступление и наказание», этот величайший уголовный роман всех времен? Знаний бы ему, пожалуй, хватило, но вот сознания, совести… Что касается Гете, который во всех своих произведениях, начиная с «Вертера» и кончая «Избирательным сродством», также показывает себя глубоким психологом, то он откровенно и прямо заявлял, что ему никогда не приходилось слышать о таком преступлении, на которое он не чувствовал бы себя способным. Это слова человека, воспитанного в духе пиетистски — углубленного изучения своей совести; однако в них преобладает элемент эллинской душевной чистоты. Верно, что эти хладнокров — ные слова — вызов бюргерской добродетели, но в них больше хладнокровия и гордыни, чем христианского само-. уничижения, в них больше дерзости, чем глубины, — в религиозном смысле. По существу, Толстой, несмотря на все его христианские порывы, ничем не отличается от Гёте. Мне нечего скрывать от людей, говорил Толстой, пусть все они знают, что я делаю. Сравните с этим признание героя «Записок из подполья», когда он говорит о своих тайных пороках… «Я уж и тогда, — заявляет он, — носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня как‑нибудь не увидали, не встретили, не узнали». В его жизни, для которой невозможна была полная откровенность, которую он не мог до конца раскрыть миру, царит тайна ада.